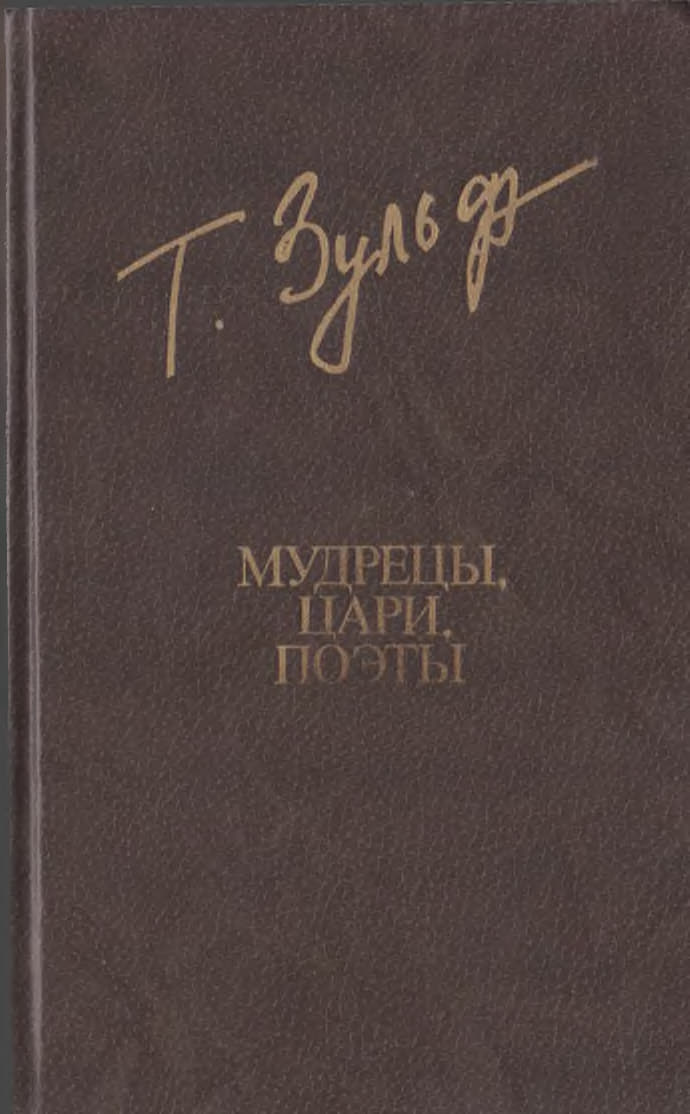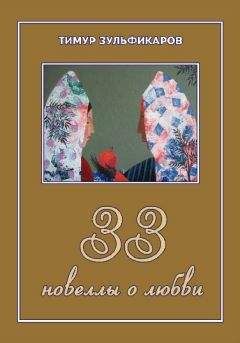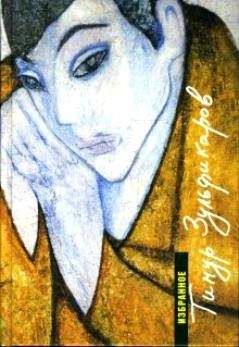с последнею ко-
сою? с вечерней росной гробовой косою
Друже друже не вижу кто там?
Друже вставай уж не видать не различить кто там
грядет в июльском густом тесном налитом сизом поле
поле поле
Друже вставай уж синь васильки теряют отдают синь
синь в дымчатом сиреневом смиренном сумеречном по-
ле живом лазоревом
Друже вставай пойдем мой спящий родной неоглядный
улыбчивый привольный
Друже вставай! знаю сладок глубок хмельной маковый
колодезный сон в поле золотистых сыплющих златые
зерна семена согбенных святых чреватых перезрелых
угорелых медовых колосьев
Но вставай друже но нощь уже но пойдем к ближней
хате чудящей в золотых пьяных подсолнухах
Друже пойдем из золотого поля в полтавские сребро-
шумящие во тополи во тополи во тополи
Друже вставай пойдем выпьем из батуринской бадьи
сливового бредового раскидистого заливистого крупча-
того первача самогона садового степного
Друже вставай нощь уж в украинском колодезном поле
Друже ночь в поле
Тогда я склоняюсь над тобою и смоляные муравьи уже!
уже роятся по тебе и не уходят не уходят не уходят
Да что ж ты? О боже да возьми меня взамен! о боже
уложи меня в последнем тихом поле боже!
Друже привольный степной мой неоглядный родный! да
ты не спящий! ты усопший
И руки хладные холодные и очи хладные холодные и
муравьи хладные холодные загробные
Друже да что ж ты? да что ж ты скошенный? друже
друже ивовый да поле то еще не скошено а ты ты ты ты
ты ты ты скошенный в нескошенных колосьях колоколь-
ных погребальных похоронных
Друже да что же оставляешь? да что ж уходишь? да
что же оставляешь одного мя в нощном пустынном без-
донном враз сиротском поле поле поле?
Да что ж лежишь как винницкий несметный обломив
шийся уже чужой чужой чужой подсолнух безысходный?
Друже да что ж ты
И тут подходит в золотых колосьях ангел жнец кобзарь
с плакучей ветхой сонной святой украинской дальней
дальней дальней пыльной пыльной бывой бывой кобзой
И улыбается и тщится силится играть витать на кобзе
дивными иными осиянными перстами волнистыми тон-
костными камышовыми
Да только струны кобзы все не собраны порублены по-
гублены оборваны порушены покошены
Зачем боже?..
* * *
Таджикские мои сады
Мои далекие родные ранние миндальные
Уж отцвели
Уже отликовали отсняли отплескались
Расплескались как пиалы многошумного бухарского
дремучего вина в моих перстах во понокотах во ночных
в моих в стареющих в дрожащих…
Она меня ждала и листья сберегала
Она меня ждала и листья соблюдала сохраняла листья
хладные декабрьские листья запоздалые
Она меня ждала моя моя давным-давно посаженная
давным-давно забытая декабрьская таджикская моя
невиноватая родимая родная
А тут увидела меня и вся затрепетала вся замаялась
зашлась вся задрожала как живая
И разом вся блаженная опала оземь златом звонным
златом хладным
Блаже
ПЫЛЬЦА ВРЕМЕНИ НА ПЛОСКОСТИ СЛОВА
Когда рассказывается сказка, голос повествователя то повышается, то понижается — в соответствии с движением ее сюжета. А для акцентирования того или иного момента, для того, чтобы выделить, подчеркнуть что-то особенно важное, рассказчик обыкновенно прибегает к повторам: «Дорога ровная-ровная», «Зверь страшный-страшный»… Происходит это не от недостатка художественных средств. Повторы, так же, как и педалирование голосом: «ро-о-о-ов-ная», — призваны стимулировать фантазию. И никакие другие художественные средства не могут заменить повтора, поскольку сказка рассчитана на устное исполнение, и очень важным элементом этого исполнения является голос рассказчика, его эмоциональное участие. Сказка по сути своей монофонична. Именно поэтому тот, кто «сказку сказывает», прибегает к повторам, синонимическим рядам, уточнениям — ради того, чтобы «ровная дорога» и «страшный зверь» предстали слушателю во всей психологической убедительности: ровной и страшным.
Мы слушаем старинный восточный инструмент — дутар. Мелодия, исполняемая на нем, естественно, не богата — ведь в дутаре всего две струны. Необходима истинная виртуозность, чтобы воссоздать с его помощью окружающий мир. Если он поет о горах, то это бесконечные гряды, если о песках, то их столько, насколько хватает глаз, если о воде, то она и быстрая, и родниковая, и мятная, а небо высокое-высокое, далекое, голубое, неохватное…
Вслушиваясь в голос Тимура Зульфикарова, я вижу опытного рассказчика, певца, акына, рапсода. У него длинные поэтические периоды: он набирает полные легкие воздуха, и дорога, по которой идут его герои, становится долгой-предолгой, уходящей за горизонт, бесконечной. Традиционный песенный повтор-припев словно бы демонтирован и растягивается под давлением каждого акцентирующего прилагательного или глагола: «И Амир идет в ночи и чинара уходит отступает тает в дымчатом тумане растворяется теряется теряется теряется…» Это звенит струна, наполненная одним и тем же звуком, чтобы потом вторая струна (выше или ниже) подхватила этот звук и подняла его до крика или снизила до шепота…
Глагол растягивает действие, придает ему временной характер, наделяет его временной протяженностью. А прилагательное призвано замедлять действие, отягощая подвижное существительное пыльцой, подобной пыльце на крыльях бабочки: «Нежные тихие опустелые объялые кроткие ветви льнут… ласкают… гладят… лелеют лицо мое юное сильное резкое росистое росное…»
Пальцы гуляют по струнам, звук переходит с одной струны на другую, превращаясь в гулкое многомерное эхо. Две струны, но какая пронизывающая мелодия, какой длинный, захватывающий рассказ о первой любви Ходжи Насреддина, этого мудрого, легендарно-бессмертного странника, что прошел по всем тропам: от кибитки к кибитке, от аула к аулу, от берегов Амударьи до Средиземного моря, впитывая опыт многих народов, принимая в свое сердце все несправедливости мира, конденсируя в себе и раздавая людям энергию добра и смеха.
Нет, Тимур Зульфикаров не пошел по проторенному пути вслед за своим героем. Он провел его по неизвестным, забытым дорогам детства, любви, старости… Он разрушил устоявшийся стереотип. Ведь когда произносишь «Ходжа Насреддин», непременно видишь улыбку на устах собеседника, за которой неизменно следует цитирование его афоризма, или сентенции, или анекдота, действующим лицом которого является сам Ходжа Насреддин. Это путь традиционного толкования и восприятия мифологической личности, которое всегда было окрашено иронией, юмором. У Тимура Зульфикарова Ходжа Насреддин