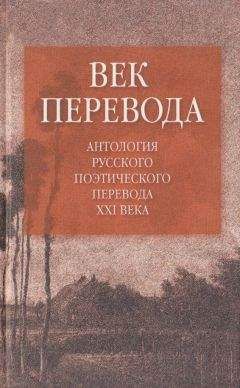Эпитафия
В землице сырой
Наш Джонни Макнил:
Хоть был он чудной,
Его всяк любил.
Был звон вразнобой;
И старый наш поп
Прощался с душой,
Когда клали гроб.
Зеленой травой
Тот холмик покрыт;
И знак небольшой:
«Тут Джонни лежит».
Сказ, в общем, простой:
Хоть Джонни Макнил
Был малость чудной,
Его всяк любил.
Кромвель был вояка,
Кромвель был святой,
В Скотию он прибыл
Как к себе домой.
К Перту подвел пушку
Страшной толщины.
«Бум!» — пальнула пушка,
Вот и нет стены.
Спейгейтская нищенка
Взвыла: «Стой, балбес!»
Каркнул: «Творю, старуха,
Волю я небес».
Тумак дали в школе —
Прочитать не сумел.
Тумак от мамаши —
Расплескать суп успел
Тумак же от брата —
Поиграть взял не то,
И тумак от папаши —
Бог знает за что.
Джон Нокс знал по-латински,
Иврит и грецкий знал,
Но всё ж с его амвона
Родной язык звучал.
Хоть росту небольшого,
Большой тряс бородой,
Сей бороды боялся
Всяк, даже зверь лесной.
С галер домой принес он
Морей озноб и страх,
И речи были солью,
Блеск моря был в глазах.
Джон Нокс был предназначен
Вступить с короной в спор;
Над Скотией всё веет
Его дух до сих пор.
ДУНКАН КЭМПБЕЛЛ СКОТТ{38} (1862–1947)
Цветок фиалки в томе Шекспира
В святой тайник возвышенной души
Фиалки нежной пал цветок —
С красой простившись, меж страниц, в тиши,
Утратил жизни сок.
Его собратья в мускусе лощин
Лиловый вновь соткут ковер,
Прохладу изумрудную долин
Вплетая в свой узор.
Ему быть тенью этой красоты:
Поблек их стеблей чистый тон,
И ярко-синий цвет крыла мечты
В горсть пепла превращен.
Но здесь, где страстью страсть сотворена,
Он дар Шекспира превзойдет;
От Дездемоны вглубь цветка, бледна,
Душа ее скользнет.
И светлый край вдруг в памяти всплывет,
Где вихрь людских страстей возник:
Роса, в зерцале пруда звездный свод,
На роще лунный блик.
Тот голос, что дрожал во тьме ночной,
Рванется ввысь, — и вдруг, застыв,
Как жаворонка светлый звон лесной,
В холмах замрет мотив.
Читатель пьес, от чаянья устав
В них свое сердце разгадать,
Уйдет искать средь сумрачных дубрав
Озер подлунных гладь.
ДЖОН РОНАЛЬД РУЭЛ ТОЛКИН{39} (1892–1973)
Вот кот: толст живот,
вкусны ли сны —
о сливках жирных, мирных
мышах-крепышах?
Иль во сне, горд, тверд,
наш кот бредет
по полям-лесам — там
его род живет:
закален, стан силен,
высок прыжок,
людей, зверей — бей,
непрост восток!
Льва оскал — как провал;
когтей страшней
не найдешь, клык — что нож,
штыка острей!
Грозен тигра рык,
легки прыжки,
в чаще в черную ночь
тихи шаги.
Там, где лес до небес,
хищный род царит;
кот ручной — не такой,
он в уюте спит.
Только толстый кот,
что домашним слывет,
память ту бережет.
НИКОЛОЗ БАРАТАШВИЛИ{41} (1784–1856)
Я пришпорил коня, позабыв о привычной дороге.
Сзади ворон кричит, как всегда, предвещая тревогу.
Что ж, Мерани, лети, как придется, по жизни, по свету,
с черной мыслью сплети обезумевший, яростный ветер.
Воздух, воды и твердь рассеки, бей копытом невзгоды!
Слышишь, конь, торопись! Сократи расстоянья и годы,
Слышишь, конь, не щади ни себя, ни меня в бурях грозных;
в стужу, слякоть и зной ты скачи, не надеясь на отдых.
За спиной — отчий дом, плечи друга, улыбка любимой.
Всё забыто, разбито и скрыто в удушливом дыме.
Мне отчизной в ночи станет место шального ночлега;
со звездой заведу разговор, отдыхая от бега.
Всё, что было во мне, что в душе я так долго лелеял,
отдаю плеску волн и биенью копыт, не жалея.
С черной мыслью сплету обезумевший, яростный ветер,
на коне пролечу, как придется, по жизни, по свету.
Знаю я: где умру, там и лягу под пасмурным небом,
и не вспомнит никто обо мне. То ли был, то ли не был.
Мне никто из людей пятаками глаза не прикроет;
ворон выроет яму, а ветер присыплет землею.
Будут дождь и роса вместо слез на любимых ресницах,
а оплакивать станут меня перелетные птицы.
Но пока я живой и судьба мне хребет не сломала,
пронеси меня, конь, к горизонту, где светятся дали!
Я враждую с судьбой, измеряя года по минутам.
Будь что будет! Пусть смерть помешает дойти до приюта.
Мчись, Мерани, вперед, без оглядки, по жизни, по свету,
с черной мыслью сплети обезумевший, яростный ветер!
Видно, я обречен. Темнота подступила вплотную.
От дороги устав, задыхаюсь в холодном поту я.
Но не зря я летел на коне, забывая про раны;
путь для тех, кто пойдет, протоптал беспокойный Мерани.
И опять кто-то гонит коня, позабыв о дороге,
и опять воронье, как всегда, предвещает тревогу.
Что ж, Мерани, лети, как придется, по жизни, по свету,
с черной мыслью сплети обезумевший, яростный ветер.
ЖОЗЕ-МАРИЯ ДЕ ЭРЕДИА{42} (1842–1905)
У моря, на горе — святилища руины.
Смерть размешала там, в пластах горячих глин,
и бронзовых бойцов, и мраморных богинь,
чью славу погребло безмолвие полыни.
Один лишь волопас стада гоняет ныне;
он, раковиной той, где дышит древний гимн,
наполнив даль небес и тишь сквозных глубин,
свой черный силуэт воздвиг в бескрайней сини.
Земля, как мать, нежна к античным божествам;
велит, чтоб меж стеблей разбитой капители
другие по весне аканты зеленели.
Но Человек, увы, чужд праотцев мечтам;
без дрожи внемлет он со дна ночей смиренных
пучине, что ревет и плачет по Сиренам.
И звероборец шел один сквозь чащу леса
по распахавшим грунт следам гигантских лап;
вдруг по плечам хлестнул горячий хищный храп
и солнца свет померк за гибельной завесой.
Не ведая пути, как если б встретил беса, —
в терновник, по ручью, с обрыва на ухаб, —
к Тиринфу убегал объятый страхом раб.
Широкие зрачки от ужаса белесы.
Он видел въяве тот живой кошмар Немеи:
космата и рыжа шерсть на короткой шее,
оскаленная пасть, клыков кинжальный строй.
Так в сумерках грозна тень длинная фигуры
Геракла, что стоит в кровавой львиной шкуре;
не человек, не зверь — чудовищный герой.
Дух мирры умащал наложниц молодых,
что нежатся в мечтах, декабрь смакуя вяло,
и угольницы медь покои озаряла,
метав огонь и тень по ликам бледным их.
На пурпурных одрах, в подушках пуховых,
подчас одно из тел — тех, мрамора ль, опала —
то выгнется, а то взметнется — и опало;
так складками лежит виссона страстный штрих.
Вот, сочивом себя саму разбередив,
восточная раба парильни посреди
бессильно вьет рукой в томленьи безголосом;
и вольную толпу увядших Авзонид
в неистовом кругу пьянит, манит, блазнит
дикарство черных кос, оплетших бронзу торса.