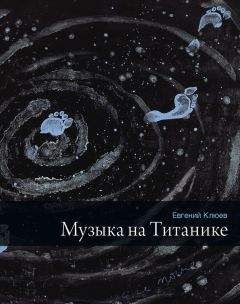Музыка на Титанике
Веку тому Господнему
нынешний слишком нов:
помню, летали пу небу —
нищие, без штанов,
Божии всё избранники
с крыльями из свинца!
Музыка на Титанике
играла до конца.
Нам полоумной удали
в пламенном том тогда
больше чем надо выдали,
дамы и господа,
бражники, гипертоники,
траченые сердца!
Музыка на Титанике
играла до конца.
Это мы после выясним,
выпрыгнувши из тьмы:
всё-то там было вымыслом —
время, пространство, мы,
буквы газетной хроники —
по ширине лица.
Музыка на Титанике
играла до конца.
Веку мы были бабочки,
бабочка только гость:
вынесли нас за скобочки,
бросили где пришлось —
и разлетелись странники
пу свету, как пыльца.
Музыка на Титанике
играла до конца.
«Если б я распоряжался этим садом…»
Если б я распоряжался этим садом,
если б я распоряжался этим судном,
если б я распоряжался этим скудным
судным днём, в котором нету виноватых,
если бы я распоряжался этим стадом,
этим праздничным, весёлым и бесстыдным —
с неумелым, но божественным рапсодом,
распевающим с безжалостным надсадом
о далёких, им не виданных широтах,
или – бедным медным светом за фасадом,
испещрённым завитками финтифлюшек…
или вот хотя бы только этим сердцем —
этим нежным, малолетним этим ситцем,
полным творческих сомнений и ромашек, —
то клянусь, что и тогда бы я не тронул,
несмотря на все издержки и излишки,
ни ромашки ни одной, ни финтифлюшки,
не коснулся б, не нарушил, не поранил —
всё считал бы дорогим и ненаглядным,
вызывающим любовь, и боль, и жалость!
Потому-то я и не распоряжаюсь
этим светом, этим садом, этим судном…
«Ещё бы знать тогда, как всё потом…»
Ещё бы знать тогда, как всё потом
перевернётся и перекроится:
я стану парусник, ты станешь птица —
я весь в серебряном, а ты вся в золотом!
Ещё бы знать тогда, что тусклый свет,
непостижимый тусклый свет былого
пробьёт сегодня сказанное слово —
тому былому сказанное вслед,
что серебро и золото бедны
и ничего по-прежнему не стоят —
лишь только дождь пройдёт и снег растает,
и дунет ветер из чужой страны.
Ещё бы знать тогда, что жизнь щедра
и даст нам всё, о чём мы ни попросим,
всё, что потом мы так беспечно бросим
на полдороге в нищее вчера,
и что, раздаривая впопыхах
сокровища свои случайным людям,
мы никогда друг друга не забудем —
и что потом мы встретимся в стихах:
два мотылька, в неведеньи святом
играющие отражённым светом!
Ещё бы знать тогда, как всё потом —
как всё сейчас… потом, потом об этом.
«Ангелы порхают, в том числе и хранители…»
«Будь здоров!»
Из последнего письма
Ангелы порхают, в том числе и хранители,
там, где восполнители утрат, исполнители
самых смертельных номеров,
просто говорят: будь-здоров —
будь-здоров-не-кашляй-не-ходи-по-воде,
не-пиши-стихов-и-не-читай-их-нигде,
уничтожь-все-ручки-и-все-карандаши,
не-греши-а-если-вдруг-грешишь-то-греши.
У них, у исполнителей смертельных номеров,
множество всяких изумительных даров:
вот тебе развилка, вот тебе мосток,
вот тебе белка, вот тебе свисток,
вот тебе свалка, вот тебе верстак,
если что делаешь, делай не так,
не ходи по кромке, не рискуй головой,
ешь побольше фруктов, оставайся живой!
У них, у восполнителей всяческих утрат,
здесь, на белом свете, немного отрад:
если взгляд соборующего не суров
да у Богородицы есть новый покров.
Однова рождаемся, живём однова,
однова уходим, оставляя слова:
будь-здоров-не-кашляй-не-ходи-по-воде…
Да святится имя Ваше – здесь и везде.
«Оно-то ведь и держит на плаву…»
Оно-то ведь и держит на плаву,
что я пишу слова: не жизнь живу —
слова пишу, пишу о чём придётся,
как писарь полковой без полководца.
Он просто пишет разные слова
для поддержанья навыка – едва
живого, глядя в небо голубое,
поскольку пусто, пусто поле боя
и после слов «Мы все здесь полегли»
уже ни слова не поднять с земли.
Он пишет – он не плачет, не скорбит,
он пишет потому, что не убит,
он пишет скоро и остервенело,
он пишет потому, что есть чернила —
они бурлят, они ещё бурлят,
и достаёт до неба праздный взгляд,
оттуда слово, словно плод, снимая —
уже ни для кого, уже немое.
Он пишет, чтобы не прервблась весть:
я, дескать, здесь, я, дескать, ещё есть —
и буду быть, и будут взятки гладки,
покуда слово не застрянет в глотке
и, перекрыв воздушную струю
последнему живому самураю,
не прекратит чумную весть мою.
И я пишу слова и умираю.
А ещё тебе скажу я,
только нет тебя давно,
что сказала ворожея —
полудетская строка:
мол, придёт такое время,
говорила ворожея,
что уже не докричишься
в облака.
Мол, придёт такое время,
что ни вздумать, ни взгадать, —
жизнь мою опережая,
говорила ворожея,
предрекала перемены,
убеждала погодить,
насыпбла мне в карманы
упредительных камней:
чтобы я остановился,
чтобы сделался смирней.
Ты куда, куда, скаженный,
ты куда, куда, блаженный,
ты куда из этих дней,
говорила ворожея,
кулачками угрожая
то ли тучке на груди,
то ли точке впереди.
«Все стихи однажды уже были…»
Все стихи однажды уже были.
Ю. Левитанский
Все стихи однажды уже были.
Все стихи однажды уже сплыли —
и стихов давно уж нет как нет.
Вместо них теперь – да что угодно:
сводки самочувствия, погоды,
списки приглашённых на банкет,
справки с мест учёбы и работы,
перечни удавшейся диеты,
расписанья дальних поездов,
планы на неделю и на месяц,
даты выгула слонов и мосек
и реестры шахматных ходов,
договоры о разделе Польши,
заговоры от чумы и порчи,
приговоры старым мастерам…
А стихи уплыли на пароме —
и блуждает дальними морями
этот неприкаянный паром,
странствует, по слухам, где придётся —
в бурных водах памяти и детства,
чей кипящий след ещё не стёрт,
выглядит, по слухам, очень браво,
все права имеет – кроме права
заходить в любой ближайший порт.
«Вот в этой шкатулке с секретом…»
Вот в этой шкатулке с секретом
сокрыта прогулка с Сократом
да пара бредовых идей.
А этот вот ключик-замочек —
на случай свинцовых примочек:
владей!
Спроси – и я сразу отвечу,
а нет – закружу, заморочу,
уж это-то мне не впервой.
А хочешь – совсем откровенно:
открыв мои тайны, как вены, —
давай?
Давай. Мои тайны бумажны
и неинтересны таможне —
таможенник рылся да скис,
найдя на газетном обрывке
двух птичек и рядом – две рыбки:
эскиз.
Живу – ничего не скрываю,
пуста моя жизнь кочевая,
и туго затянут ремень.
Молюсь же я так: Бог Вещичек,
храни моих рыбок и птичек —
аминь.
«Что однажды застыло на западном рубеже…»
Что однажды застыло на западном рубеже
и назад не пошло – как бы громко ни окликали, —
существует теперь только в звательном падеже
и по этой причине отсутствует под руками.
Ненадёжное дело, напрасное дело – звать,
догонять, настигать… объяснять, что нельзя иначе, —
Никакого «опять» не бывает: не ходят вспять
ни часы, ни стихи, ни удачи… ни неудачи.
А текущий момент поплескался – и был таков,
всё засохло навек, и глаза твои стали суше:
там остался лишь влажный след от чужих стихов —
кто сказал, что твоих? Ты не пишешь подобной чуши.
Ты не любишь стихов – никогда не любил, не знал,
не заучивал, не повторял, не носил у сердца.
Ты не ведаешь, что здесь делает полный зал —
и зачем ты к нему, самозванец, лицом уселся.
Присягаю: прошло, забыто, простите все,
это кто-то другой нагулял по другим дорогам,
ибо нынешний кружится белкою в колесе
и не помнит того языка, на котором – с Богом.
Я не слышу вас, я вас не слышу: плохая связь —
или руки дрожат, или пальцы уже не держат,
а веревочка тонкая, между эпох змеясь,
издает вдруг ужасный… но, в общем, понятный скрежет.
Впрочем, тень не скрежещет, о чём я, Господь со мной,
и с тобой, и со всеми, кто ловит далёкий отзвук
или отблеск далёкий – отчаянный позывной
для особо нервозных! Хоть это не для нервозных.
Потому что мы знаем: не будет других разов —
вострубил уже ангел последний, у Иоанна
больше ангелов нет – и никто не пришёл на зов,
и прокисло вино за кормой второго стакана.
«Хоровод красавчиков и страшил…»