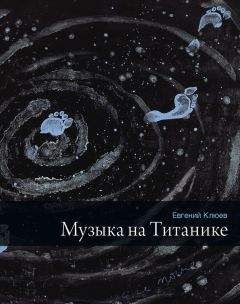«Хоровод красавчиков и страшил…»
Хоровод красавчиков и страшил,
безмятежные небеса…
Вот и век, не заметив меня, прошёл,
вот и новый век начался.
Тот был век-полигон, а каков-то – сей?
Улыбается Божество:
он пока никаков, он пока музей
экспонатов века того.
Он пока никаков, он пока альбом
с фотографиями родни:
малыша с крутым, в завитушках, лбом —
зачинателя всей резни,
малыша с усищами, в чьих зрачках
чёрный ворон и чёрный холм,
малыша – ничком, в роговых очках,
малыша – на бомбе верхом…
Всюду матушки, тётушки и дядья
пьют чаи, говорят о душе —
там никак не мог оказаться я,
да и поздно было уже:
день к концу подходил, был притушен свет
и не вёл никуда след…
А к тому же меня никогда нет.
Да меня и теперь нет.
Раньше я не знал, что каждый – каждый! – может умереть.
Но однажды Вы сказали: «Каждый может умереть».
И теперь я точно знаю: это может каждый встречный,
каждый встречный-поперечный – каждый может умереть.
Мы играли на рояле каждый может умереть,
мы на скрипочке играли каждый может умереть,
мы играли на свирели, на свирели, на спирали,
а потом на нонпарели каждый может умереть.
Даже каждый автогонщик тоже может умереть,
даже каждый автогенщик тоже может умереть,
даже каждый полицейский, даже каждый милицейский,
даже каждый медицинский тоже может умереть.
Мы писали на консоли каждый может умереть,
мы писали на скрижали каждый может умереть,
мы писали на скрижали, на медали, на фланели…
Но из дальней нашей дали не звонили две недели.
Вышло так, как Вы сказали: каждый может умереть.
1
Самое светлое в мире занятие – наряжать ёлку,
приурочив событье к субботе… нет, к воскресенью,
чтобы действовать не торопясь, наряжать – долго,
наряжать серебром, наряжать янтарём, наряжать синью,
наряжать сапожком, наряжать туеском, наряжать сердцем,
наряжать стеклянною рыбою, бабочкою картонной,
наряжать жёлтой луковицей и пурпурным перцем,
и обматывать всё это дело весёлою паутиной,
а закончить – звездою, горящею, значит, над миром:
Мельхиору, как водится, Касперу и Бальтазару
чтоб, когда путешествуют с золотом, ладаном, мирром,
было, стало быть, празднично, их триединому взору…
вот и всё, и теперь уж осталось смотреть и смотреть в оба,
шля привет из окна всем подряд, но особенно – пешим:
заходите ко мне, у меня сапожок, туесок, рыба
и другое, чего я, клянусь вам, даже не вешал.
2
Самое тёмное в мире занятие – разряжать ёлку,
удаляя по очереди за надеждой надежду —
нарисованную по небу, написанную по шёлку,
молоком между строчками выведенную, и между —
между нами всё кончено, праздники миновали,
убирай их теперь по коробкам, обкладывай ватой
танцы-шманцы твои, тили-тили твои, трали-вали —
никогда не ходи по пятам за сердечною смутой,
за огнями, вчерашними днями, местами родными,
упакуй свои звёзды, и сферы, и ленты подальше:
слишком сильно блестят… да и вот уж явились за нами
люди, звери, орлы, крокодилы и их крокодильши —
прогонять нас отсюда, как псов, извините, бродячих,
мы навешали всякого лишнего, вы извините,
всё уже поснимали – осталась лишь пара сердечек
и дождя золотого отдельные, редкие, нити.
3
Самое тёмное в мире занятие – заряжать пушку
через произрастающий вверх металлический стебель,
стебель вечно пустой, потому-то он и нараспашку —
загружать, значит, всякую гибель и всякую убыль…
эту гибель и убыль везут на тяжёлых подводах,
до земли проседающих: прежние очарованья,
горький опыт, обиды – всё в мире стоит на обидах —
и напрасные слёзы, и страх, и усмешка кривая,
осторожность суждений, двусмысленность разговоров,
потаённые мысли во время ночных путешествий…
почему-то всё это у нас превращается в порох
и внезапно взрывается с силою сумасшедшей,
и потом молодые солдатики – райские пешки —
убивать начинают, а после – их убивают,
убивают теми же ядрами той же пушки,
теми же ядрами, которые не убывают.
4
Самое светлое в мире занятие – разряжать пушку,
извлекая на свет прекрасные дальние планы,
извлекая новые солнца и новые луны —
не подряд, одно за другим, а всё вперемешку:
извлекая за мирозданием мирозданье —
то-то будет чем заниматься по воскресеньям
беспризорным детям и многодетным семьям,
то-то будет что рассматривать на ладони,
ибо много всего предстоит, и теперь уж точно
можно больше не суетиться, не торопиться,
посмотри: из железных недр вылетают птицы,
распевая о том, что не так тут всё быстротечно,
посмотри, вылетают бабочки и стрекозы,
и счастливая жизнь начинается помаленьку:
выбегают – все белокуры, все голубоглазы —
дети малые, прапраправнуки Метерлинка.
5
Самое светлое в мире занятие – снаряжать судно
на съеденье голодным штормам и таким же пиратам,
до свиданья, мы все отправляемся к южным широтам…
– это очень досадно (в толпе пробегает глиссандо),
но нас вряд ли уже остановишь: наполнены трюмы,
хорошо или нет – это выяснится по дороге,
с нами наши молитвы и наши высокие храмы,
с нами наши святыни и наши беспечные боги,
и серьёзные наши подзорные трубы, и карты —
вообще не того континента, который нам нужен…
впрочем, нам континент и не нужен – нам хватит жемчужин
и кораллов, и прочего хлама, не так ли, Рикардо? —
и Рикардо кивает седой головой и смеётся,
он-то знает наверное, что не положено в трюмы
и что в первую очередь нужно: не боги, не храмы —
только ветер попутный, удача и смелость, и солнце.
6
Самое тёмное в мире занятие – возвращаться,
возвращаться ни с чем – то есть нищим и возвращаться,
за душой ни огня не имея, ни денег, ни счастья —
лишь цветную стекляшку: взгляните, какая вещица,
в ваших скучных краях вы такой никогда не видали —
посмотрите, как ярко блестит, и ведь всё там такое,
всё так ярко блестит, ведь на то нам и дальние дали,
чтобы всё там блестело – оттуда нас всех беспокоя!..
и взахлёб вспоминать, и давиться словами чужими,
и расспрашивать, и узнавать – не без горечи, в общем,
что и тут без него, получается, вроде бы жили —
и поныне живём, слава Богу, и сильно не ропщем —
и, зажав своё сердце в кулак, улыбаться навстречу
им – стекляшку вертящим в руках сообща и поврозно,
и дивиться сердечной их радости, детской их речи,
и начать им рассказывать, как обустроить отчизну.
«Неужели это – то: ни тонких кружев…»
Неужели это – то: ни тонких кружев,
ни воздушной кисеи… один бетон!
В общем, кружев тут у вас не обнаружив,
я растаиваю в дыме золотом.
А где дым беру – да здесь же, по соседству:
там его не то чтоб тьма, но есть чуть-чуть.
Поскребут, как говорится, по сусеку:
дескать, вот вам, забавляйтесь… завернуть?
Но скажите: это то, ради чего я
уходил – к другим чертям или чертам?
Эта воля не родней, чем та неволя,
здесь – не здешнее, чем тамошнее там.
Ибо с нами остаются только птицы,
а пространство никогда нам не верну,
а пространство, как и прежде, не годится —
по размеру ли, по цвету… всё равно!
За горами, за долами, за рекою…
дух мятущийся, куда же ты, постой,
ты всегда живёшь не этой, а другою —
жизнью, смертью ли, забавой ли, мечтой:
чтобы вечность, с её пламенным приветом,
неизменно оставалась за бортом —
как тот свет, что вечно снится нам на этом,
и как этот, что приснится нам на том.
«Потом, потом поговорим о том о сём…»
Потом, потом поговорим о том о сём,
взяв то и сё не за грудки, так за чубы,
покуда ангелы, крича мы вас спасём,
сметают время с прохудившейся судьбы.
Потом, потом поговорим, сейчас зима,
сейчас придут за нами, спросят, как дела,
страшнее этого вопроса лишь чума —
чума, которая разит из-за угла.
Дела такие, значит… – я забыл ответ,
я не уверен, я не помню, не готов,
но я был должен дать себе самоотвод
и отказаться от подарков и цветов,
а согласился… принял всё, сказал мерси,
и в тот же миг, под этот маленький шумок —
вжик – небеса вдруг ускользнули в небеси,
и я потом их разыскать уже не мог.
И дальше, в общем, не туда уже вело —
куда вело… да всё равно теперь куда.
А что до ангелов – им будет тяжело,
и мы, наверное, не стоим их труда,
ведь мы и раньше-то не числились в живых —
так, понарошку начинали свой забег,
так, не всерьёз, не навсегда – на черновик,
не навсегда, на черновик, на чёрный век.