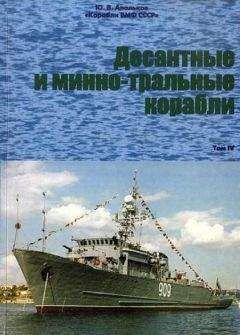Они разошлись в конце 1962 года. А в начале 1963-го Сильвия Плат покончила с собой.
Мне не хочется подробнее говорить о биографии Сильвии Плат. Она в ее стихах. После чтения их с неизбежностью возникает ощущение близкого личного знакомства.
Толчком для этой книги послужило желание Василия Бетаки переделать несколько своих старых переводов, сделанных почти двадцать лет назад по заказу редактора литературных передач
Би-би-си для радиопередачи о Сильвии Плат. Переводы были сделаны тем самым «русским верлибром», который, как правило, и есть «проза, да и дурная», и поэтому никак не передавали обаяния и колдовства подлинника, хотя и из них была видна крайняя необычность С.Плат. И вот по прошествии времени В.Бетаки захотелось эти несколько старых переводов переделать по совсем иному принципу. А в результате получилась целая книжка.
Всю осень 1999-го мы с Бетаки читали Сильвию Плат, и все больше погружались, все больше влюблялись в нее. Сейчас мне кажется, что это — одно из главных событий, произошедших со мной той осенью. Я совершенно сжилась с ее поэзией. В нее входишь постепенно, и чем больше читаешь, тем больше не оторваться: перелистываю книгу, и о каждом стихотворении хочется что-то сказать…
Вот «Wuthering heights» — продутые ветром йоркширские холмы. Я написала эти несколько слов, а перед глазами — холмы на закате, пожалуй, увиденные откуда-то сверху, прозрачный воздух, сухая трава. Мне уже этого не забыть, как музыкальную фразу, с которой сроднился и которую можно вызвать из памяти в любое мгновение. И вот из этих холмов в вереске растет вселенскость, галактичность, но сами холмы остаются живыми, настоящими, очень любимыми, как любимо любое мгновенье, о котором она пишет. Вообще одна из основных сущностей «поэзии вообще» выражена у нее предельно, всё у неё — «Остановись, мгновенье». Страх не запомнить, не унести с собой, в себе. Страх несуществования, преодоленный этой остановкой мгновения. Пейзажи, пейзажи… А через них утверждение собственного существования, настоенного на острейшей любви к миру. Редчайшая способность к бессмертию через увиденное, к вечности — через мгновенье. Вот я возвращаюсь к «Wuthering heights». Холмы, закат — и чувство, что стоит лечь в этот вереск, и не встанешь, сольешься с ним белыми косточками. И из каждой лужи глядит вечность. Потом темнеет, и огни в долинах — медяки на черном бархатном дне кошелька вселенной. И звезды ведь тоже медяки в этом кошельке.
И уже в другом стихотворении — вечерний свет на холмах — свет Грааля. И ни капли напыщенности или приподнятости, просто редчайшая интимность. Золотой неподвижный август — опять я вижу этот стеклянный купол неба, это золото недвижного света. И называется стихотворение — «Мидас». Греческий царь все превращал в золото, Сильвия Плат — в стихи.
Вот странное чувство: у нее очень много трагических стихов. Очень много о смерти; и вот, при всем при этом, она для меня — невероятно гармоничный поэт. Все, чего она коснулась, пронизано любовью. Она пишет о старом бабушкином доме, на который наваливается «море неряшливое», говорит, как достает она любовь из этих камней, и возникает впечатление, что она вообще отовсюду достает любовь. Ей удаются стихи и о «женской богадельне», и о женщинах, чинящих сети в крошечном приморском городке Новой Англии… А когда читаешь это стихотворение о рыбачках, совершенно естественное, без капли выспренности, то вдруг оказывается, что женщины эти — античные парки. Мотив рока возникает за текстом. И тут, наверно, ярко проявляется одна из особенностей Сильвии Плат — постоянное укрупнение и осмысление повседневности. В мире Сильвии Плат всё увиденное значительно: любая картина становится новой клеткой личности. И самый большой страх — потерять, не успеть впитать убегающую картину. Забытое умирает, а вместе с забытым умираешь и ты сам. Острота восприятия каждого мгновения и каждого впечатления — гарантия самого существования поэта, подтверждение бытия личности.
Совершенно удивительно, сколько разных, с трудом совместимых литературных реминисценций вызывает у русского читателя ее поэзия.
Пастернаковский пантеизм — этот мир, в котором деревья равнозначны человеку, в котором у древних замшелых камней есть душа, притом не романтическая, не аллегорическая. Просто наличие души у камней, у деревьев столь же естественно, как и у нас. И совершенно естественно стремиться к тому, чтобы деревья приняли тебя в свой круг, поняли.
А безудержность ее метафор и, порой, ритмическая ткань — тянут к Маяковскому.
Дневниковость каждого описанного мига, постоянное, ежесекундное осмысление мира, рефлексия и полное отсутствие котурнов напоминают о Бродском. Так же, как Бродского, торопливые ритмы века не ведут ее за собой, а наоборот — вызывают желание уравновесить их медленно льющейся медитативной и в то же время предельно напряженной стихией стихотворного потока. Стихи ее — тоже сплошной поток, и когда читаешь их подряд, возникает ощущение очень интимного знакомства с автором.
Мне кажется, переводы в этом сборнике очень удались, и Сильвия Плат возникла по-русски удивительно цельным поэтом. Так естественно войдут в русскую поэзию стынущие на ветру бретонские блины, иссиня-черные ягоды ежевики, а за ними сверкающее море, еле слышный среди водяных лилий плеск весел на совершенно неподвижном озере…
И в заключение — о том каков в переводах принцип передачи авторской стиховой манеры.
За редчайшими исключениями, как можно утверждать по опыту уже всего ХХ века, русский верлибр в чистом виде (т.е. и без рифм, и без ритмического чередования ударений) не состоялся. Как правило, верлибром считается у нас (да и на деле оказывается) инверсированная без причин проза, нарезанная на строки (причём чаще всего отрезают просто по концам фраз).
Пришедший к нам с переводами, этот «верлибр» стал в шестидесятых годах появляться и в оригинальной русской поэзии, хотя ничего не только значительного, но и просто хорошего не дал (несколько редких удавшихся попыток верлибра еще в начале века, в том числе и три-четыре стихотворения всегда глубоко мелодичного А.Блока можно тут и не считать).
Произошло все это потому, что некритический подход со стороны многих переводчиков поэзии к глубиннейшему различию между английским и русским стихом и вообще между самими языками позволил очень внешнее копирование формы, по-русски обернувшейся бесформенностью. Эта бесформенность вслед за переводами попыталась обосноваться и в оригинальном русском стихе. (См. сборник «Время Икс. Современный русский свободный стих». М., 1989, в котором не случайно, видимо, из почти двадцати авторов нет ни одного мало-мальски известного имени.)
Говоря же об английском верлибре, мы чаще всего забываем, что отсутствие резко ощутимой рифмы там компенсируется с лихвой такой густотой аллитераций и ассонансов, а также приблизительных рифмоидов, что легко можно себе представить целые длинные стихотворения, построенные главным образом на внутристрочной звукописи не менее густой, чем пресловутое пушкинское «шипенье пенистых бокалов». Такие стихи и существуют по-английски еще со времен раннего средневековья, благодаря вот этому имманентному свойству английского языка, намного более, чем русский, звукоподражательного. По-русски же, за сравнительной бедностью возможностей звукописи, верлибр, заимствованный довольно-таки бездумно и поверхностно, не звучит. Он беден и предельно прозаичен, даже при фразовых параллелизмах.
Русский стих, видимо, вообще перестаёт быть стихом при одновременном отсутствии и ритма, и рифмы. Хотя бы один из этих двух факторов необходим: либо мы имеем ритмический белый стих, либо стих рифмованный, пусть даже с самыми раскачанными, почти исчезающими ритмами.
Вполне вероятно, что для русского стиха рифма значительно важней, чем ритм. Мы знаем (и отнюдь не только у Маяковского) множество самых различных стихов с очень вольным, почти исчезающим ритмом, построенных только или почти только на рифмовке, тогда как, наоборот, белый стих у нас весьма однообразен: традиционно это почти всегда — пятистопный ямб, ну и еще гекзаметр (как правило, только в переводах, введенный Н.Гнедичем и В.Жуковским).
Стих же с самыми незаметными, или часто меняющимися, а то и вовсе не организованными ритмами, всё же будет стихом по-русски, если только рифмовка подчинит его себе. Вот это-то и есть, видимо, наилучший русский эквивалент свободного стиха.
В последние два десятилетия именно такой стих, организованный в основном, или даже только рифмой, стал иногда применяться при переводах современной поэзии с английского. Отдельные пока примеры в переводе отдельных стихотворений, не рифмованных в подлиннике, но обретших рифму по-русски, убеждают в перспективности этого нового подхода к переводам английских верлибров. Примеры: перевод некоторых стихотворений Т.С.Элиота (Андрей Сергеев), или Дилана Томаса (Георгий Бен), ну и большая часть стихов в предлагаемой книге. У Сильвии Плат три четверти стихов — нерифмованные верлибры, но исключительно богатые звукописью, что по-русски и компенсируется введением рифм, зачастую ассонансных, консонансных, а порой и рифмоидов и прочих неклассических созвучий, широко применяемых в русском стихе второй половины столетия. Там же, где стих и в подлиннике рифмованный, но расположение рифм не регулярно, переводчик в этой нерегулярности, как правило, следует за автором. (Естественно, регулярная рифмовка и тем более классическая строфика — катрены, терцины, сонет и т.п. — в переводах неуклонно сохранены.)