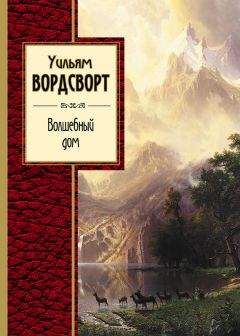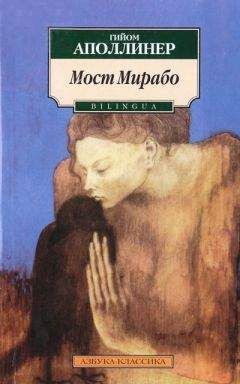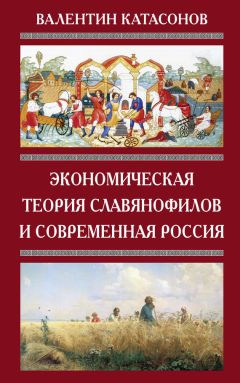Мальчик
Был мальчик. Вам знаком он был, утесы
И острова Винандра! Сколько раз,
По вечерам, лишь только над верхами
Холмов зажгутся искры ранних звезд
В лазури темной, он стоял, бывало,
В тени дерев, над озером блестящим.
И там, скрестивши пальцы и ладонь
Сведя с ладонью наподобье трубки,
Он подносил ее к губам и криком
Тревожил мир в лесу дремучих сов.
И на призыв его, со всех сторон,
Над водною равниной раздавался
Их дикий крик, пронзительный и резкий.
И звонкий свист, и хохот, и в горах
Гул перекатный эха – чудных звуков
Волшебный хор! Когда же, вслед за тем,
Вдруг наступала тишина, он часто
В безмолвии природы, на скалах,
Сам ощущал невольный в сердце трепет,
Заслышав где-то далеко журчанье
Ключей нагорных. Дивная картина
Тогда в восторг в нем душу приводила
Своей торжественной красой, своими
Утесами, лесами, теплым небом,
В пучине вод неясно отраженным.
Его ж уж нет! Бедняжка умер рано,
Лет девяти он сверстников оставил.
О, как прекрасна тихая долина,
Где он родился! Вся плющом увита,
Висит со скал над сельской школой церковь.
И если мне случится в летний вечер
Идти через кладбище, я готов
Там целый час стоять с глубокой думой
Над тихою могилой, где он спит.
Два года ранней юности своей
Ты подарила дымным городам
И с тихим прилежаньем научилась
Ценить лишь те живые Существа,
Какие жизнь проводят у камина;
И потому-то сердцем не спешишь
Ответить на расположенье тех,
Кто с умилением глядит на горы
И дружит с рощами и ручейками.
Ты нас покинула, и все же мы,
Живущие в укромной простоте
Среди лесов и нив, не разлюбили
Тебя, Джоанна! Я бы поручился,
Что после долгих месяцев разлуки
Ты с радостью бы услыхала некий
Обычный наш пустячный разговор
И подивилась верным чувствам тех,
С кем ты бывала счастлива когда-то.
Тому дней десять – я сидел в тиши
Под соснами, сомкнувшимися гордо
Над старой колокольней, и Викарий
Оставил мрачное свое жилище
И, поздоровавшись со мной, спросил:
«Что слышно про строптивую Джоанну?
Не собирается ль она вернуться?»
Порассудив о сельских новостях,
Он принялся выпытывать, зачем
Я возрождаю идолопоклонство,
И, как Друид, руническим письмом
Я высек чье-то имя на отвесной
Скале над Ротой, у опушки леса.
Я ощущал в душе невозмутимость,
Какая возникает на границе
Меж старою любовью и досадой,
И не старался избежать дознанья;
И вот что я сказал ему: «Однажды
С Джоанной мы гуляли на заре
В то восхитительное время года,
Когда повсюду верба расцветает
И золотыми жилами струится
В зеленых перелесках по холмам.
Тропинка привела на берег Роты
К крутой скале, глядящей на восток;
И там пред величавою преградой
Я замер – я стоял и созерцал
Скалу от основанья до вершины:
На необъятной плоскости сплетались
Кусты, деревья, камни и цветы;
Прелестная игра нежнейших красок,
Объединенных властной красотой,
Одним усильем восхищала сердце.
Так я стоял минуты две – и вдруг
Лукавая Джоанна мой восторг
Заметила и громко рассмеялась.
Скала как бы воспрянула от сна
И, вторя Деве, тоже рассмеялась;
Им отвечала древняя Старуха,
Сидящая на гулком Хэммарскаре;
И Хелмкрег, и высокий Силвер-Хау
Послали вдаль раскаты смеха; к югу
Его услышал Ферфилд, а за ним
Откликнулся громами дальний Лохригг;
Хелвеллин к ясным небесам вознес
Веселье гордой Девы; старый Скиддо
Задул в свою трубу; сквозь облачка
Донесся снежный голос Гларамары;
И Керкстон возвратил его к земле».
Наш добрый друг Викарий мне внимал
С растерянной улыбкой изумленья,
И мне пришлось сказать, что я не знаю,
На самом деле братство древних гор
Откликнулось на смех иль, может быть,
Я грезил наяву и был мой слух
Обманут потаенными мечтами.
Но только я уверен, что вдали
Мы слышали раскатистое эхо,
И милая Джоанна вдруг прильнула
Ко мне, как будто требуя защиты.
А восемнадцать месяцев спустя,
Уже один, прохладным ясным утром
Я оказался около скалы
И в память о давнишнем верном чувстве
Я высек на живом ее граните
Руническими буквами: ДЖОАННА.
И я, и те, кто близок мне, зовем
Прекрасную скалу Скалой Джоанны.
Стихи, посвященные национальной независимости и свободе
«С печалью смутной думал я не раз…»
С печалью смутной думал я не раз
О Бонапарте. Знал ли миг счастливый
Сей человек? Что он из детства спас:
Какие сны, надежды и порывы?
Не в битвах, где начальствует приказ,
Рождается правитель справедливый —
Умом и волей твердый, как алмаз,
Душой своей, как мать, чадолюбивый.
Нет, мудрость повседневностью жива:
Чем будничней, тем необыкновенней;
Прогулки, книги, праздность – вот ступени
Неоспоримой Мощи. Такова
Власть подлинная, чуждая борений
Мирских; и таковы ее права.
Кале, 15 августа 1802 года
Каких торжеств свидетелем я стал:
Отныне Бонапарт приемлет званье
Пожизненного консула. Признанье —
Кумиру, и почет, и пьедестал!
Бог весть, об этом ли француз мечтал?
В Кале особенного ликованья
Я не приметил – или упованья:
Всяк о своем хлопочет. Я видал
Иные празднества в иное время:
Какой восторг тогда в сердцах царил,
Какой нелепый, юношеский пыл!
Блажен, кто, не надеясь на владык,
Сам осознал свое земное бремя
И жребий человеческий постиг.
На падение Венецианской республики, 1802
Ты часовым для Запада была
И мусульман надменных подчинила.
Венеция! Ни ложь врага, ни сила
Ее дела унизить не могла.
Она Свободы первенцем была,
Рожденью своему не изменила,
Весь мир девичьей красотой пленила
И с морем вечным под венец пошла.
Но час настал роскошного заката —
Ни прежней славы, ни былых вождей!
И что ж осталось? Горечь и расплата.
Мы – люди! Пожалеем вместе с ней,
Что все ушло, блиставшее когда-то,
Что стер наш век и тень великих дней.
Несчастнейший из всех людей, Туссен!
Внимаешь ли напевам плугаря,
Уносишься ли мыслью за моря, —
Во мгле, среди глухих тюремных стен,—
Будь тверд, о Вождь, и превозможешь плен!
Поверженный – сражался ты не зря.
Чело твое – как ясная заря,
И знаю: гордый дух твой не согбен.
Всё – даже ветра шелестящий лёт —
Нашептывает о тебе. Живи!
Сама земля и сам небесный свод —
Великие союзники твои.
Отчаяния горечь, жар любви
И ум – вот непоборный твой оплот.
Лондон. Сентябрь 1802 года
Скажи, мой друг, как путь найти прямей,
Когда притворство – общая зараза,
И делают нам жизнь – лишь для показа —
Портной, сапожник, повар и лакей.
Скользи, сверкай, как в ясный день ручей,
Не то пропал! В цене – богач, пролаза.
Величье – не сюжет и для рассказа,
Оно не тронет нынешних людей.
Стяжательство, грабеж и мотовство —
Кумиры наши, – то, что нынче в силе.
Высокий образ мыслей мы забыли.
Ни чистоты, ни правды – все мертво!
Где старый наш святой очаг семейный,
Где прежней веры дух благоговейный?
Как нынче, Мильтон, Англии ты нужен!
Она – болото; меч, перо, амвон,
Село и замок впали в смутный сон.
Мы себялюбцы, и наш дух недужен.
Вернись же к нам, дабы тобой разбужен
Был край родной и к жизни воскрешен!
Пусть мощным, вольным, властным станет он
И с добродетелью исконной дружен.
С душой, как одинокая звезда,
И речью, словно гул стихии водной,
Как небо чист, могучий и свободный,
Ты бодро-благочестным был всегда,
Взвалив на сердце, в простоте безгневной,
Убогий труд работы повседневной.
Лондон, 1802
Сонет, написанный на морском побережье близ Кале. Август 1802
Вечерняя звезда земли моей!
Ты как бы в лоне Англии родном
Покоишься в блистании огней,
В закатном упоении своем.
Ты стать могла бы светочем, гербом
Для всех народов до скончанья дней.
Веселым блеском, свежестью лучей
Играла бы на знамени святом.
Об Англии, простертой над тобой,
Я думаю со страхом и мольбой,
Исполненный мучительных тревог.
В единстве жизни, славы и судьбы
Вы неразрывны – да хранит вас Бог
Среди пустой, бесчувственной толпы.
«Не хмурься, критик, не отринь сонета!..»
Не хмурься, критик, не отринь сонета!
Он ключ, которым сердце открывал
Свое Шекспир; Петрарка врачевал
Печаль, когда звенела лютня эта;
У Тассо часто флейтой он взывал;
Им скорбь Камоэнса была согрета;
Он в кипарисовый венок поэта,
Которым Дант чело короновал,
Вплетен, как мирт; он, как светляк бессонный,
Вел Спенсера на трудный перевал,
Из царства фей, дорогой потаенной;
Трубой в руках у Мильтона он стал,
Чье медногласье душу возвышало;
Увы, труба звучала слишком мало!
«Отшельницам не тесно жить по кельям…»