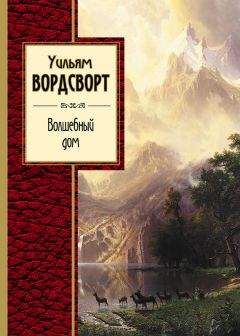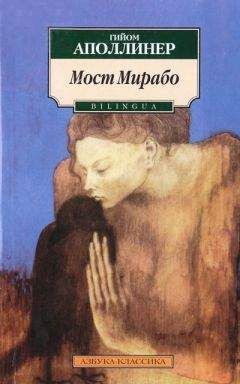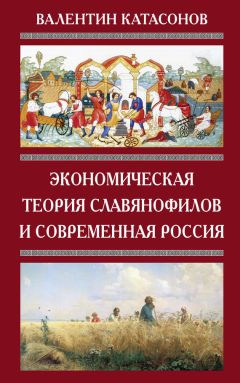«Не хмурься, критик, не отринь сонета!..»
Не хмурься, критик, не отринь сонета!
Он ключ, которым сердце открывал
Свое Шекспир; Петрарка врачевал
Печаль, когда звенела лютня эта;
У Тассо часто флейтой он взывал;
Им скорбь Камоэнса была согрета;
Он в кипарисовый венок поэта,
Которым Дант чело короновал,
Вплетен, как мирт; он, как светляк бессонный,
Вел Спенсера на трудный перевал,
Из царства фей, дорогой потаенной;
Трубой в руках у Мильтона он стал,
Чье медногласье душу возвышало;
Увы, труба звучала слишком мало!
«Отшельницам не тесно жить по кельям…»
Отшельницам не тесно жить по кельям;
В пещерах жизнь пустыннику легка;
Весь день поэт не сходит с чердака;
Работница поет за рукодельем;
Ткач любит стан свой; в Форнер-Фелльс к ущельям
Пчела с полей летит издалека,
Чтоб утонуть там в чашечке цветка;
И узники живут в тюрьме с весельем.
Вот почему так любо мне замкнуть,
В час отдыха, мысль вольную поэта
В размере трудном тесного сонета.
Я рад, когда он в сердце чье-нибудь,
Узнавшее излишней воли бремя,
Прольет отраду, как и мне, на время.
Сонет, написанный на Вестминстерском мосту 3 сентября 1802 года
Нет зрелища пленительней! И в ком
Не дрогнет дух бесчувственно-упрямый
При виде величавой панорамы,
Где утро – будто в ризы – все кругом
Одело в Красоту. И каждый дом,
Суда в порту, театры, башни, храмы,
Река в сверканье этой мирной рамы,
Все утопает в блеске голубом.
Нет, никогда так ярко не вставало
Так первозданно солнце над рекой,
Так чутко тишина не колдовала,
Вода не знала ясности такой.
И город спит. Еще прохожих мало,
И в Сердце мощном царствует покой.
«Путь суеты – с него нам не свернуть!..»
Путь суеты – с него нам не свернуть!
Проходит жизнь за выгодой в погоне;
Наш род Природе – как бы посторонний,
Мы от нее свободны, вот в чем жуть.
Пусть лунный свет волны ласкает грудь,
Пускай ветра зайдутся в диком стоне
Или заснут, как спит цветок в бутоне, —
Все это нас не может всколыхнуть.
О Боже! Для чего в дали блаженной
Язычником родиться я не мог!
Своей наивной верой вдохновенный,
Я в мире так бы не был одинок:
Протей вставал бы предо мной из пены
И дул Тритон в свой перевитый рог!
Вечерняя безветренная тишь.
Монахине, свершающей обряд,
Подобно время. Солнечный закат
Как бы в своем покое потонул.
У моря, как у райских врат, стоишь.
Прислушайся: проснулся мощный Дух!
Извечным ритмом наш волнует слух
Его сплошной громоподобный гул.
Дитя мое, гуляя здесь со мной,
Пусть и чужда ты мысли неземной —
Но все ж твое чудесно естество.
Преданью ты причастна круглый год
И сокровенный храм твой стережет
Незримое тобою Божество.
«Признаться, я не очень-то охоч…»
Признаться, я не очень-то охоч
До тихих радостей молвы скандальной;
Судить соседей с высоты моральной
Да слухи в ступе без толку толочь —
Про чью-то мать-страдалицу, про дочь —
Строптивицу, – весь этот вздор банальный
Стирается с меня, как в зале бальной
Разметка мелом в праздничную ночь.
Не лучше ль вместо словоговоренья
С безмолвным другом иль наедине
Сидеть, забыв стремленья и волненья —
Сидеть и слушать в долгой тишине,
Как чайник закипает на огне
И вспыхивают в очаге поленья?
«Я думал: «Милый край! Чрез много лет…»
Я думал: «Милый край! Чрез много лет,
Когда тебя, даст Бог, увижу снова,
Воспоминанья детства дорогого,
Минувшей дружбы, радостей и бед
Мне будут тяжким бременем». Но нет!
Я возвратился, – и тоска былого
Меня не мучит, не гнетет сурово,
И слезы мне не застят белый свет.
Растерянно, смущенно и сутуло
Стоял я, озираючись вокруг:
Как съежились ручей, и холм, и луг!
Как будто Время палочкой взмахнуло…
Стоял, смотрел – и рассмеялся вдруг,
И всю мою печаль как ветром сдуло.
Земля в цвету и чистый небосвод,
Жужжанье пчел, медлительное стадо,
И шум дождя, и шум от водопада,
И зрелость нив, и поздних птиц отлет —
Я вспоминаю все – и сон нейдет,
Но долго ждать еще рассвета надо.
Ворвется щебет утреннего сада,
Начнет кукушка свой печальный счет.
Две ночи я в борьбе с бегущим сном
Глаз не сомкнул, и вот сегодня – эта!
Настанет утро – что за радость в нем,
Когда не спал и маялся до света.
Приди, поставь рубеж меж днем и днем,
Хранитель сил и ясных дум поэта!
«Все море сплошь усеяли суда…»
Все море сплошь усеяли суда,
Их, как по небу звезды, разметало:
Одних на рейде волнами качало,
Других несло неведомо куда.
И шхуну заприметил я тогда:
Чуть вздрагивая под толчками шквала,
Она из бухты весело бежала,
Своей оснасткой пышною горда.
Что мне она! Но, глаз не отрывая,
Я, как влюбленный, вслед глядел с тоской;
Ей не страшна погода штилевая:
Ее приход встряхнет любой покой…
Она прошла вдоль мыса, покидая
Залив, – и вышла на простор морской.
«Слаб человек и разуменьем слеп…»
«Слаб человек и разуменьем слеп;
Тяжел он для Удачи легкокрылой,
Беспомощен пред Памятью унылой
И в тщетной жажде Радости нелеп!» —
Так думал тот, кто сумерки судеб
Впервые озарил волшебной Силой,
Что сразу вознесла Рассудок хилый
Над тусклой явью будничных потреб.
Воображенье – вот сей дар желанный,
Свет мысленный и истинный оплот,
Лишь амарант его благоуханный
Чело страдальца тихо обовьет, —
Его не сдуют бедствий ураганы,
Его и ветер скорби не сомнет.
«О Сумрак, предвечерья государь!..»
О Сумрак, предвечерья государь!
Халиф на час, ты Тьмы ночной щедрее,
Когда стираешь, над землею рея,
Все преходящее. – О древний царь!
Не так ли за грядой скалистой встарь
Мерцал залив, когда в ложбине хмурой
Косматый бритт, покрытый волчьей шкурой,
Устраивал себе ночлег? Дикарь,
Что мог узреть он в меркнущем просторе
Пред тем, как сном его глаза смежило? —
То, что доныне видим мы вдали:
Подкову темных гор, и это море,
Прибой и звезды – все, что есть и было
От сотворенья неба и земли.
«Смутясь от радости, я обернулся…»
Смутясь от радости, я обернулся,
Чтоб поделиться – с кем, как не с тобой? —
Но над твоей могильною плитой,
Увы, давно безмолвный мрак сомкнулся.
Любовь моя! Я словно бы очнулся
От наваждения… Ужель я мог
Забыть, хотя бы на ничтожный срок,
Свою потерю? Как я обманулся?
И так мне стало больно в этот миг,
Как никогда еще – с той самой даты,
Когда, у гроба стоя, я постиг,
Неотвратимым холодом объятый,
Что навсегда померк небесный лик
И годы мне не возместят утраты.
Блажен идущий, отвративший взор
От местности, чьи краски и черты
Зовут себя разглядывать в упор,
Минующий прекрасные цветы.
Ему иной желаннее простор:
Пространство грезы, нежный зов мечты —
Как бы мгновенно сотканный узор
Меж блеском и затменьем красоты.
Любовь и Мысль, незримые для глаз,
Покинут нас – и с Музой в свой черед
Мы поспешим проститься в тот же час.
Покуда ж вдохновение живет —
Росу на песнопение прольет
Небесный разум, заключенный в нас.
О, не молчи! Или любовь – цветок?
И холод отдаленья моего
Убил последний слабый лепесток
Прекрасного цветения его?
Я, словно странник, нищ и одинок.
Прерви свой сон, как злое колдовство!
Поверь, что счастья твоего залог
Лишь в исполненье долга своего.
Откликнись же! Пусть сердце-сирота
Печальней опустевшего гнезда,
Засыпанного снегом средь нагих
И зябнущих шиповника ветвей, —
Но тысячью признаний дорогих
Сомненья нестерпимые развей!
«Я отложил перо; мне шквальный ветер пел…»
Я отложил перо; мне шквальный ветер пел
О бригах гибнущих, о буреломных чащах, —
Полуночный псалом, утраченный для спящих
Невольников забот и повседневных дел.
Помыслил я тогда: вот мой земной удел —
Внимать мелодии, без меры и созвучий,
Чтоб я ответствовал на вещий зов певучий
И страстным языком природы овладел.
Немногим явственен надгробный стон такой,
Звучащий набожно над горем и тоской
Давно минувших лет; но он как буря эта,
Порывом яростным печаля сердце мне,
О наступающей пророчит тишине,
О легкой зыби волн в сиянии рассвета.