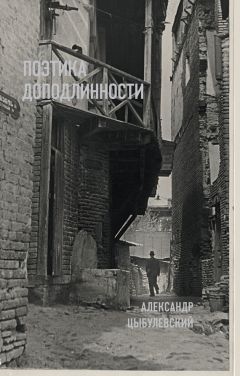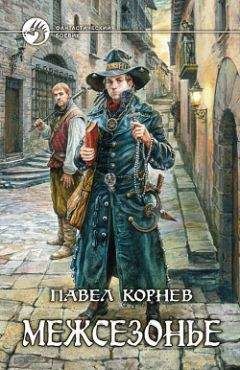Но не надо смешивать авторитет Кумира с авторитетом Учителя – это разные вещи, даже если они и совпадают в одном лице. Повторяю, речь до сих пор шла лишь об одной составляющей книжной культуры – о круге привязанностей поэта, о его опоре, так сказать, на «чужие» книги. А как обстоит дело с другой составляющей? Как та же культура отразилась и преобразилась в самом творчестве, в собственно поэтической материи Цыбулевского?
Вчитываясь в работу о Важа Пшавела, видишь, как напряженно всматривался Цыбулевский в различные, глубоко специфичные поэтические концепции Заболоцкого, Цветаевой, Мандельштама и Пастернака, претворенные ими в стихах и переводах (в этом смысле стихи и переводы не изоморфны, не тождественны друг другу). Его взгляд беспристрастен, объективен, внимателен, но ревнив. Встречая что-либо близкое, созвучное ему самому, он сразу же углубляет и расширяет мысль, привлекает уместные высказывания самих поэтов. Сопоставление концепций этих четырех поэтов с творчеством самого Цыбулевского подводит к выводу о том, что мандельштамовская доминанта, столь отчетливо проявившая себя при анализе круга «кумиров», в кругу «учителей» выражена слабее – здесь вровень с Мандельштамом с его «гнутым словом» и ассоциативной, сконцентрированной строфой становится и Марина Цветаева[94], опьяненная словом и экспрессивной мыслью, а в ряде отношений – и Пастернак. Наименее близка Цыбулевскому эпическая и живописательная поэтика Заболоцкого, но именно с Заболоцким совпадает такая черта поэтики Цыбулевского, как оглядка на ризницу русской поэзии – «высокие повторения – гулы, отзвуки, эхо всей литературы» (РППВП, 5).
Эта мысль о Заболоцком (о Заболоцком и о себе!) развивается в главке о поэме «Гоготур и Апшина»:
…Цель Заболоцкого – перевести данный текст наилучшим образом. Средство осуществления – русская классическая поэзия – перевод акустически заполняют ее гулы, отзвуки, эхо. Роль читателя пассивна, его поэтическая подготовка может быть невысока, в уши ему не вливается ничего такого, что бы он не слышал, ничего режущего или настораживающего. Это не делает стих подражательным или безликим – тут есть своя стать, своевольные и невольные приметы и повадки (выделено мной. – П.Н.)[95].
Таким образом, у Цыбулевского мы находим то же, что Тынянов находил у Блока, а сам он находил у Заболоцкого, – гулы, отзвуки, эхо русской классической поэзии. Ко времени Цыбулевского русская поэзия уже претерпела существенную метаморфозу, прочно впитав в себя соки Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Маяковского, в меньшей мере – Хлебникова.
«Мера естественности» столкнулась с «мерой исключительности» и качнулась от легкости к затрудненности, от гладкости к шершавости. Цыбулевский выступает как поэт, глубоко усвоивший, воспринявший и перенявший новые традиции, новые «приметы и повадки». Такой феномен обновленной культурности поэта, увы, не так уж част в современной русской поэзии (вообще говоря, в незнании своего русла, в утере поэтических критериев – один из глубочайших и трагичнейших ее парадоксов).
И тем значимее на этом фоне все еще малоизвестное у нас творчество Цыбулевского, одного из культурнейших наших поэтов. Его стихи – помимо культуртрегерской миссии – место встречи, переслаивания и совместного выхода на поверхность многих лучших пластов русской поэзии – и прежде всего мандельштамовских, цветаевских и пастернаковских.
Обнаруживая в себе бессознательное сходство, родство с другим поэтом или же сознательно прививая себе что-нибудь из его арсенала, перенимая модуляции и тембр его голоса-стиля, Цыбулевский не уподобляется своим учителям, не перевоплощается в них, но сплавляет их в нечто своеобразное, самобытное – свое. А компоненты сплава, на первый взгляд, таковы – цветаевское (и отчасти мандельштамовское) отношение к слову – «одержимость словом», мандельштамовское, концентрированное отношение к строчке и пастернаковское – к строфе (подробнее об этом ниже). В этом сплаве нет ни безликого эпигонства, ни подозрительного эклектизма – тут есть своя стать, «не заимствование и присвоение, а свободное и законное владение наследством» (РППВП, 70).
Однако уже из анализа видно, что поэзия Цыбулевского – великолепная мишень для любителей упрекать в пресловутой «вторичности», «книжности», «литературности» и прочая. Убежден, что эти упреки – абсурдны. Но не потому, что они безадресны или несправедливы, а потому, что под ними нет эстетической почвы.
Ярлычок «вторичность» изобретен, по-видимому, теми, кто от имени науки полагает, что ее главная цель состоит именно в изобретении ярлычков (теория) и в их расклеивании (практика). Искусство же, и поэзия в том числе (а может быть – и прежде всего), не таково. Оно в принципе не может быть вторичным; или, наоборот, всякое искусство всегда вторично – все зависит от того, что под вторичностью понимать.
Чаще всего под ней подразумевают традиционность, литературное преемство, трактуемое почему-то как эпигонство и несамостоятельность. Такой взгляд несостоятелен. Любой человек «вторичен» уже потому, что у него есть отец и мать. Ни детям родителей, ни родителям детей выбирать, к счастью, не дано, и уже поэтому нехорошо упрекать ребенка в том, что его родители якобы чем-то не хороши, или в том, что он похож на своих родителей: других у него и нет, и не должно быть!
Вторение – не враг творения, а, наоборот, залог его. Упрек в стиховтворении – не упрек, поскольку главное в стихотворении – совсем другое: подлинно оно или халтурно, глубоко или поверхностно. Противопоставление «первичное – вторичное», если угодно, аналитично и познавательно, но отнюдь не оценочно – и не нужно этого забывать.
Но ни чистое новаторство, ни чистая традиционность – невозможны. В словесном искусстве существуют жанры, вторичные «принципиально» – то есть прямо опирающиеся на некий литературный первоисточник. И это ни много ни мало – художественный перевод, воссоздающий («ценой потерь и компенсаций», как удачно выразился А. Цыбулевский) национальный художественный текст в силовом поле другого языка.
Второй пример – пародия, то есть жанр, принципиально опошляющий первоисточник, нацеленный на него под таким углом зрения, чтобы выставить его в убийственно смехотворном виде (чаще всего «атаке» подвергаются стилистические или этические огрехи автора, гораздо реже – но это и есть самое трудное – пародируется сама его поэтика).
В-третьих, центон – то есть стихотворение-одеяло, сшитое из строчек-лоскутков, принадлежащих различным уже написанным стихотворениям одного и того же или даже нескольких разных авторов (если в европейской традиции жанр центонов окрашен комически, юмористическими красками, то в литературах Дальневосточного региона мы встречаем и совершенно серьезные аналоги его – произведения, почти сплошь составленные из цитат и реминисценций из древних).
И наконец, сама критика как самостоятельное искусство – а такой взгляд на нее вполне правомерен – так же должна быть отнесена к разряду принципиально «вторичных» литературных жанров.
«Вторичность» как упрек сомнительна в связи и с таким немаловажным обстоятельством. Поэзия – во всяком случае для поэта – та же жизнь: это ее плоскость, синоним и выражение одновременно. И стихи уже потому неповторимы, непохожи друг на друга, что судьбы писательские тождественными быть никак не могут – никакую копирку между биографиями проложить нельзя. И следовательно, какова бы при этом ни была лексическая, стилистическая или же иная внутрипоэтическая близость (или даже зависимость!) разных поэтов, говорить в таких случаях об эпигонстве, о перепевании и пр. и неправомерно, и бестактно. К тому же это и ненаучно, поскольку здесь налицо явная подмена целого (поэзия, стихотворения) его частью, компонентом, аспектом (стилистикой, лексикой и т. д.).
Если Пушкин любил и писал о своей любви, то это не значит, что тема любви после него закрывается, а соответствующие этой теме стихи классифицируются как эпигонские (в таком случае Пушкин был бы точно такой же эпигон, как и все прочие). И пушкинское «Я вас любил…», и, скажем, «Первые свидания» Тарковского – шедевры русской любовной лирики. Но они не перепевают друг друга – и не потому только, что сама тема необъятна, еще и потому, что жизненный опыт, судьба, время жизни двух этих поэтов – резко не похожи.
В общем-то у всех русских поэтов и тематический, и языковой арсенал примерно одинаков. Но гений (или талант) каждого из них организует их творчество всякий раз по-своему и, в итоге, бесконечно разнообразно. Поэтому говорить об эпигонстве и о вторичности – значит оглуплять и опошлять самое поэзию: это все равно что делить и раздавать «по блату» космос. Ибо, согласитесь, невозможно пережить чужое горе так же, как свое, невозможно прожить вне или мимо своей эпохи. «Времена не выбирают, в них живут и умирают» – как прекрасно сказал об этом Александр Кушнер.