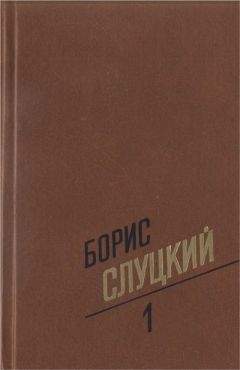«У каждого были причины свои…»
У каждого были причины свои:
одни — ради семьи.
Другие — ради корыстных причин:
звание, должность, чин.
Но ложно понятая любовь
к отечеству, к расшибанью лбов
во имя его
двинула большинство.
И тот, кто писал: «Мы не рабы!» —
в школе, на доске,
не стал переть против судьбы,
видимой невдалеке.
И бог — усталый древний старик,
прячущийся в облаках,
был заменен одним из своих
в хромовых сапогах.
Били Мейерхольда — ежедневно,
он же только головой качал
вяло, а не гневно.
В голосе утратился металл.
Жизнь всю жизнь ему казалась театром.
Режиссер был властен, словно бог.
Раньше был он сильным, ловким, тертым.
А теперь он ничего не мог.
Жизнь, которая почти прошла
под морской прибой аплодисментов,
стала вдруг под занавес пошла,
коротка, в масштабе сантиметров.
Как-то добивали старика,
заседали, били, нападали.
Эта цель казалась так легка:
бабы из рогаток попадали.
Расскажу про, может быть, последнюю
режиссерскую находку.
Пользуюсь писательскою сплетнею.
Шла очередная сходка.
Слово попросила Зивельчинская.
Слово в ту эпоху было дело.
Тощей и дешевой зубочисткою
эта дева старая глядела.
Сбросив шубку жестом элегантным,
руки не забыв горе воздеть,
шла к трибуне смерти делегатка,
юбку позабывшая надеть.
Шла она в лиловых трикотиновых,
в продававшихся тогда штанах.
В душном зале, в волнах никотиновых
смех звучал активнее, чем страх.
Смех звучал, звучал, звучал,
видя ту сиреневую гадость.
А для Мейерхольда означал
этот случай маленькую радость.
— Существо, — сказал старик, —
среднего, по-видимому, рода.
Говорит от имени народа.
К этому я, собственно, привык.
Но народ из двух родов —
женского и плюс к тому мужского —
состоит, и существа такого
нет меж наших сел и городов,
быть не может.
— Существо, — он повторял,
Мейерхольд, Всеволод Эмильич,
и язвительнейший взор вперял
в эту растерявшуюся мелочь.
Двадцать лет прошло — и ничего,
встречу в клубе эту старушонку,
сразу вспомню
бешено и звонко
сказанное слово: существо.
— А на что вы согласны?
— На все.
— А на что вы способны?
— На многое.
— И на то, что ужасно?
— Да.
— То, что подло и злобно?
— Конечно.
От решимости вот такой,
раздирающей смело действительность,
предпочтешь и вялый покой,
и ничтожную нерешительность.
— Как же так на все до конца?
— Это нам проще простого.
— И отца?
— Если надо — отца.
— Сына?
— Да хоть духа святого.
«Было право на труд и на отдых…»
Было право на труд и на отдых.
Обеспечили старость мою.
Воспевали во многих одах
право с честью погибнуть в бою.
Не описано только историями,
ни один не содержит аннал
право жизни и смерти, которыми
я частенько располагал.
Мне недолго давалось для выбора:
день-два, даже час-два,
отсеченью или же выговору
подлежала одна голова.
Пожурить и на фронт отправить
или как пылинку смахнуть.
Ни карать не хочу, ни править.
Это — только себя обмануть.
Сколько мы народу истратили,
сколько в ссадинах и синяках.
Ни правителя, ни карателя
не выходит из нас никак.
Сколько мы народу обидели
на всю жизнь, на год, на час.
Ни карателя, ни правителя
получиться не может из нас.
«Лезвий бритвенных в Пуле нету…»
Лезвий бритвенных в Пуле нету,
в Пуле, в той, что в конце планеты.
На околице дальней земли
отвечают: не завезли.
Ликование в частных цирюльнях.
Размышления в местном листке.
Лезвий нет! Пока мечут перуны,
правлю сточенные на руке.
А по Пуле идут туристы.
В их глазах озлобленье и суд.
Триста западных немцев. Триста
австрияков по Пуле идут.
Мы одни на земле югославской,
в отдаленьи от нашей земли,
с пониманьем встречаем и лаской
это робкое «не завезли».
«Человек на развилке путей…»
Человек на развилке путей
прикрывает газетой глаза,
но куда он свернет,
напечатано в этой газете.
То ли просто без всяких затей,
то ли в виде абстрактных идей,
но куда он свернет,
напечатано в этой газете.
Он от солнца глаза заслонил.
Он давно прочитал и забыл.
Да, еще на рассвете.
На развилке пред ним два пути,
но куда ему все же идти,
напечатано в этой газете.
Переехало, раздавило,
словно кошку вдавило в шоссе.
Это что, лавина? Лавина.
Все — лавины! Оползни все.
Время! Это так называется.
Та эпоха, что после моей.
Надвигается, насувается
что-то вроде хребтов и морей.
Время. Осыпь недель и столетий,
а минут и секунд обвал.
Нет, не раз, не другой, не третий
я под временем побывал.
Мне глаза позапорошило.
Перепонки рвануло в ушах.
Старый, словно Клим Ворошилов,
поднимаюсь и делаю шаг.
И кадык у меня играет,
пробиваясь куда-то вовне,
и весь зал слеза пробирает,
и весь зал на моей стороне.
«Я целые годы свои забыл…»
Я целые годы свои забыл:
что делал, где был.
Конечно, если подумаю — вспомню,
пробелы восполню.
Да только не хочется воспоминать,
приятнее перескочить через это,
а старые годы скорее сминать,
как старые газеты.
Но все-таки было несколько дней,
когда я был смелей и умней
своих природных возможностей,
работал сверх личных мощностей.
И все слова, словно бабочки белые,
летели только к моей свече,
и жизнь краснела как вишня спелая,
сидела соколом на плече.
Я шел и слушал щелк соловья,
певшего для меня соловейка.
А личная победа моя
впадала, как струйка, в победу века.
Давайте не будем держать в уме
дни остальные серо-стальные,
а только звонкие, цветные,
ручьями гласящие: конец зиме!
Давайте выбросим из головы
пасмурных дней сумрак
и вспомним горящие, как окна Москвы
в вечернее время суток.
«Спешит закончить Эренбург…»
Спешит закончить Эренбург
свои анналы,
как Петр — закончить Петербург:
дворцы, каналы.
Он тоже строит на песке
и на болоте
по любопытству, по тоске
и по охоте.
По непреодолимости
воспоминаний
и по необходимости
их воплощений,
и по неутомимости
своих желаний
и по неотвратимости
своих свершений.
«А что же все-таки, если бог…»
А что же все-таки, если бог
и в самом деле есть?
Я прожил жизнь, не учитывая,
что он, быть может, есть.
Если он есть, он учтет
то, что я его не учел:
все смешки и насмешки мои,
все грешки и спешки мои.
Что же мне делать, если бог
в самом деле есть?
Он присмотрелся, наверно, ко мне.
Он меня взвесил и учел.
Вряд ли он позабыл,
что я его отрицал.
Вряд ли он меня простил,
если он все-таки есть.
«Человек подсчитал свои силы…»