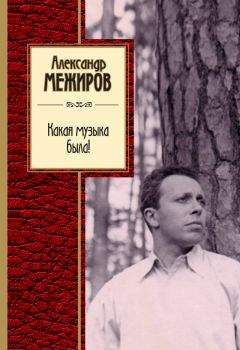6
Как вдруг на узкой полке в темноте
Я усмехнулся: что мне толки те…
Ну что теперь поделаешь?.. Судьба…
И время спать, умерить беспокойство,
На несколько часов стереть со лба
Отметину двоякого изгойства.
О двух народах сон, о двух изгоях,
Печатью мессианства в свой черед
Отмеченных историей, из коих
Клейма ни тот ни этот не сотрет.
Они всегда, как в зеркале, друг в друге
Отражены. И друг от друга прочь
Бегут. И возвращаются в испуге,
Которого не в силах превозмочь.
Единые и в святости и в свинстве,
Не могут друг без друга там и тут,
И в непреодолимом двуединстве
Друг друга прославляют и клянут.
Лебяжий переулок мой.
Почти прямой, чуть-чуть кривой,
Участник перестройки мира, —
Что там за взорванной стеной
Замоскворецкого ампира…
«Говорит себе: – Ну ладно…»
Говорит себе: – Ну ладно,
Что ж, Луанда так Луанда,
Там красиво и тепло,
Шесть недель, куда ни шло.
Рев утробный самолета.
А вернется – вспомнит что-то:
Что же
Все же
Привлекло…
Разве только – что на рейде
Зажигаются огни, —
Раньше времени, поверьте,
Зажигаются они.
Габарит рыболовецких
Иностранных и советских
И торговых кораблей,
Обозначенный на рейде
Раньше времени, поверьте,
(Но от этого светлей)
Желтым,
Синим
И зеленым
Между вечером и днем
Преждевременно зажженным
Преждевременным огнем.
Не напрасно выли мили
И мелькали города.
Ничего прекрасней в мире,
Ничего опасней в мире
Не увидит
Никогда.
Триптих
В Прекрасную Овчарню, где когда-то
Ягненком спал, – в Овчарню, где ягнята
Когда-то спали, – выспались давно, —
В Прекрасную Овчарню не дано
Вернуться из отлучки. И не надо.
Заложник флорентийского разлада
Случайно отлучился навсегда
Передавать со Страшного суда
Свои корреспонденции. Из ада
Горящие терцины исторгать,
И серой пахнуть, и людей пугать.
По цеховой, по круговой поруке,
Вины, которых не было, в зачет
Поставил ты поэту, и в разлуке
Из низости твоей он извлечет
Высокие и трепетные звуки.
И поводырь по инобытию,
У входа в рай, как бы сменив обличье,
Уступит роль высокую свою
И перевоплотится в Беатриче.
И еще об отлучке того флорентийца во славе и силе
Из Прекрасной Овчарни, в которой о Господе
люди забыли.
Жен, едва постаревших, оставили и загубили,
Ибо вскорости умерли те в одиночестве или
За оградой кладбищенской спят в отчужденной
могиле,
Вместо рая мужьями из ада отправлены в ад.
Ну а эти мужья, эти люди из праха и пыли,
Эти судьи сперва обличали его,
А потом и совсем отлучили
И анафеме предали, зная, что не виноват.
И частый зуммер, и гудки короткие,
И мука неизбывная моя,
Когда решали покарать на сходке,
Когда решали порешить меня.
Когда на сходке пили и закусывали,
И говорили по-латыни, и
По-староитальянски, не зулусы,
А флорентийцы – палачи мои.
И мука неизбывна – не в палачестве,
Не в том, что отправляли прямо в ад,
Не в страхе, и не в ужасе, тем паче, —
А в том, что знали – что не виноват.
«Мы спим. Еще не рассвело…»
Мы спим. Еще не рассвело.
Мы пребываем в сне усталом.
По-человечьи тяжело
Ворочаюсь под одеялом.
Еще до света далеко,
И рай не обернулся адом,
И, по-звериному легко,
Она ворочается рядом.
В одиннадцать встает,
Магнитофон включает,
И черный кофе пьет,
И курит, и скучает.
И слушает ансамбль,
Какой-то слишком старый,
И думает:
«Ослаб,
Совсем не те удары.
Винты совсем не те,
Усталым стал и грузным,
Как будто в темноте
Шар на столе безлузном.
Как будто так легко
От двух бортов по фишкам,
А я то широко
Беру, то узко слишком.
Хозяин отошел,
На темный лес поставил
И нас на произвол
Судьбы пустых оставил.
Наглеют фраера,
Не залетают лохи,
Кончается игра, —
Дела не так уж плохи.
Но в эту зиму я
Игру сыграл такую,
Что Книгой Бытия
Отныне не рискую.
И что́ бильярдный стол
Тому, кто ненароком
Об Иове прочел
В раздумье одиноком».
«Еще вчера сырым огнем Калькутты…»
Еще вчера сырым огнем Калькутты
Надсадно и прерывисто дыша,
Перемогался этот город лютый,
Почти бесплотный, потная душа.
Собаки здесь не слишком часто лают,
Совсем не лают, силы берегут.
Родятся люди здесь и умирают
И после смерти много раз живут.
«Палаццо – это как палатки…»
Палаццо – это как палатки,
В которых те же неполадки.
По берегам сезонный гам, —
Здесь Беарриц, здесь Ницца, Канн.
Здесь волны моря громыхают,
Здесь люди с горя отдыхают —
Стоят палатки возле скал.
Здесь по утрам, в молчанье строгом,
Идут на пляже тяжбы с Богом:
Один присел. Другой привстал…
Но тяжбы с Богом бесполезны —
Здесь все болит и все болезны,
Из рая изгнана чета.
И тот, кто думает о пользе,
Об этом пожалеет после —
Не стоит польза ни черта.
О пользе думать очень вредно, —
Все это не пройдет бесследно, —
Так следуй опыту отца,
Пока сучится нить живая,
Жизнь до последнего конца
Искусственно не продлевая.
«Чуть наклонюсь и варежку сырую…»
Чуть наклонюсь и варежку сырую
На повороте подниму со льда,
Подумать страшно, как тебя ревную
И как люблю… Должно быть, навсегда…
Еще болезни наши, наши морги,
Могилы наши – ох как далеко!
И я черчу веселые восьмерки
На раскаленном льду ЦПКО.
Мне подражать легко, мой стих расхожий,
Прямолинейный и почти прямой,
И не богат нюансами, и все же,
И вопреки всему, он только мой.
В храме Калькутты возник из-за дыма густого
Опытный нищий (в обличье – намек на святого).
Он мне кивает, как будто бы Ведам внимая,
Переживает – и связь между нами прямая.
Опытный нищий, мы братья родные по духу
И по снедающему нас обоих недугу.
В эти минуты мы оба почти что святые,
Я – из Калькутты, а ты – из Москвы, из России.
В рубище нищем, насущным живем, настоящим, —
Оба мы ищем, играем, сгораем, обрящем.
«Молчат могилы, саркофаги, склепы…»
Молчат могилы, саркофаги, склепы, —
Из праха сотворенный – прахом стал, —
Все разговоры о душе нелепы,
Но если занесло тебя в Бенгал,
Днем, возопив на крайнем перепутье,
Сырым огнем Бенгалии дыша,
Прозреешь душу вечную в Калькутте,
Которая воистину душа.
В чем виноват, за все меня простили, —
Душа и представлялась мне такой.
Воистину, как сказано в Псалтыри:
Днем вопию и ночью пред Тобой.
«Звуки, педалируя, ослабли…»
Звуки, педалируя, ослабли
Все мои кумиры, все ансамбли…
Только «Аббу» слышу и сегодня, —
Как поет в далеком далеке,
Отрешенно, холодно, свободно,
На плохом английском языке.
«В Бихаре топят кизяком…»
В Бихаре топят кизяком.
Ах, этот запах мне знаком,
Проблема общая знакома:
Сельскохозяйственных забот
У вас, у нас – невпроворот,
И кизяковый дым плывет
Над односкатной крышей дома.
У вас, у нас одна страда,
Одна беда, одна отрада, —
Вы мне родные навсегда,
Другого ада мне не надо.
Был дважды в жизни потрясен:
Сперва войной великой – въяве,
А позже Индией – сквозь сон,
В Бихаре зимнем, на заставе.
Упал шлагбаум поперек
Бихара. И, упав, обрек
«Амбасадор» на остановку,
И на дырявую циновку
Я повалился тяжело.
Навес дырявым был. А небо
Так беспощадно землю жгло,
Что от него спасенья не было.
Ах, только люди здесь добры.
Чтобы согреться, жгут костры,
И все горчит кругом от гари.
Похолодало до жары.
Темнеет в пять. Зима в Бихаре.
«Что-то разъяло на стаи лесные…»
Что-то разъяло на стаи лесные
Мир человеческого бытия.
Стая твоя, как и все остальные,
Это случайная стая твоя.
Кто его знает, что с нами случится,—
Нету и не было вех на судьбе.
Только не вой, молодая волчица,
Ветер и так завывает в трубе.
Я не сужу, а почти понимаю,—
Там, где предзимние ветры свистят,
Сбились на вечер в случайную стаю
Несколько лютых волчиц и волчат.
Только не бойся от стаи отбиться,
Жалобно так и тоскливо не вой,
Только не бойся на вечер прибиться
К старому волку из стаи чужой.