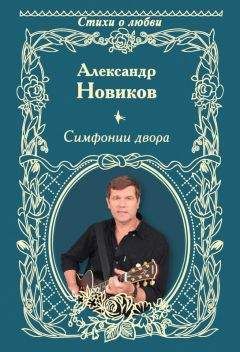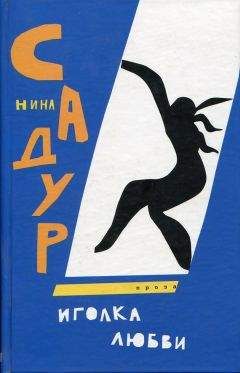Слава Богу, за забором
Был не долго я —
Шесть годков промчалось скоро,
Вслед не охая.
Я иду, дымлю сигарой
И плюю в дорогу.
Я откинулся не старый.
Слава богу!
Письма в руки мне носили
Кумы-клоуны.
В них листки в дожди косые
Разлинованы.
Перемараны цензурой —
Зря клялась девчонка та.
В них любовь цензурой-дурой
Перечеркнута.
Лучший лагерный художник
В краски броские
Рисовал портреты-рожи
Все ментовские.
Если б карточка была,
Я б портрет изладил
Той, которая ждала,
В Север глядя.
Ты мне, дядя-вертухай —
Грива сивая —
На прощанье помахай
Справкой-ксивою.
Я пойду, тряхну гитарой —
Баб на свете много.
Я откинулся не старый.
Слава богу!
1997 год
А ну-ка, девочки – на то вы и кордебалет —
Станцуйте нам местами выпуклыми хором.
Танцуйте, девочки. Я не был здесь так много
лет —
Ушел на миг всего, а возвратился так нескоро.
Под ваши каблучки и под вагонный перестук
Летела жизнь и набирала обороты.
Танцуйте, девочки. В любой из вас я вижу ту,
Что без моих цветов в чужих цветах искала
что-то.
Не мешайте.
Я хочу запастись наперед.
Не лишайте.
Жизнь и так у нас их отберет.
А ну-ка, девочки – на то вы и кордебалет —
Станцуйте так, чтоб на свече металось
пламя!
Танцуйте, девочки. Пусть вечер будет как
куплет —
Сегодня мы споем, а завтра – то же, но не
с нами.
Как на душе сверчки, скребут смычки мотив
простой.
И я пою. И как хочу, и как умею.
Танцуйте, девочки. Но пусть останется у той
Гитара пыльная с печальным бантиком
на шее.
Не мешайте.
Я хочу запастись наперед.
Не лишайте.
Жизнь и так у нас их отберет.
1994 год
Ручку мну до боли в кулаках,
Хочется писать о дураках.
Жил, водился, изводился как
Чистый и непуганый дурак.
Разнесчастна дуракова жизнь —
Умных опиши, хоть запишись.
Дураков – ни-ни! – попробуй тронь,
Дураки, они имеют бронь.
Помню, встарь схлестнутся дураки
И с трибуны чешут языки.
Шпарят без запиночки с листка —
Любо посмотреть на дурака.
А потом ударятся в хлопки —
Очень уважали дураки,—
Бьют в ладоши аж до синяка —
Во мозоль была у дурака!
А захочет кто не по листку —
Главному доложат Дураку.
– Выяснить немедля, кто таков! —
И напустят полудураков.
Подцепить, да чтоб не слез с крючка,
Малого запустят дурачка —
Эти были малые ловки, —
Даром, что считались – дураки.
Выяснили: этот самый фрукт
В стильный наряжается сюртук,
Без «текстильшвейторга»-ярлыка,
Чем, конечно, ранит дурака.
И тотчас большой дурацкий хор:
– «Негодяю мы дадим отпор!
Запретить заморские портки,
Раз не носят это дураки!»
И собранье, выкатив глаза,
Все – стоймя, двумя руками – за!
– Да, пора посбить им каблуки,
Всех – в ремки, и – марш на Соловки!
Да в дорогу надавать пинков —
Дольше будут помнить дураков —
И держать до самого звонка,
Чтобы стал похож на дурака!
В общем, стали численно крепки
И зажили крепко дураки.
Стали даже каждый стар и млад
На свой лад вносить научный вклад.
И пошли несметные труды
О целебных свойствах лебеды,
И корову дергать за соски
Втрое чаще стали дураки.
Но в три раза больше молока
Не текло на душу дурака.
И запил тогда в большой тоске
Алкоголь дурак на дураке.
И пошла их жизнь хромым-хрома,
И пришло к ним горе от ума,
И ученый ихний умный весь
Кликнул: «Братцы, это же болезнь!
Вроде СПИДа или трипака —
Коллективный вирус дурака!
А коли так, дела наши плохи,
Разбегайтесь, братцы-дураки!»
И пошел меж ними сброд и смут,
Притащили дурни свой талмуд,
И искали, где же та строка,
Выяснить, как лечат дурака?
Но в талмудном ихнем том труде
Про «лечить» не сказано нигде.
В нем про «Счастье на вовек веков
Для счастливых равных дураков».
А в конце приписка от руки:
«Надо верить. Если дураки».
1985 год
Она цветочки продавала —
Простые радости земли.
А жизнь моя была – букет из серых
дней.
Тянуло, как из поддувала
Меня на подвиги мои,
И повстречались как-то раз глазами
с ней.
В душе шипели будто кобры
Денечки прежние мои,
Я покупал ее цветы и говорил,
Что я в душе разбойник добрый
И что течет в моей крови
Огонь красивей тех цветов, что
подарил.
Ах, эта жизнь – как книга с полки,
В которой вырваны всегда
Страницы глупостей больших и темных
дел.
Их не выводят, как наколки
И не теряют, как года,
И как по-новой не пиши – слова не те.
Я говорил ей это с чувством,
Хоть по долгам не заплатил,
Что жизнь выходит напрямки, и —
хорошо.
И только дождь урчал о грустном,
Когда в него я уходил.
А утром лязгнули замки, и срок пошел.
Я ваше одиночество
Попробую убить,
Мне с вами вечер хочется побыть.
Я отступать бессилен,
Пойдемте обнявшись —
Букета нет красивее, чем жизнь.
2004 год
Шалманом подгребли. Шалманом навалились.
И выволокли так, как волокут в расход.
И часики мои в тот миг остановились.
И время для меня остановило ход.
Постойте, дайте, дайте попрощаться,
Я на свободе не был и трех дней,
Пока колесики на часиках пылятся,
Позвольте с ней,
Позвольте с ней,
Позвольте мне, я попрощаюсь
с ней.
Чтоб злое время не тащилось катафалком,
Гоню быстрей – но стрелочкам видней.
И только хитро ухмыляется русалка,
Когда на ней,
Когда на ней,
Когда все стрелки сходятся на ней.
Ах, часики-котлы —
С русалкой циферблат, —
Им срока моего не изменить.
Две стрелочки-стрелы
Кружатся наугад
И места не найдут, когда звонить.
Русалка та не ведьма и не дура —
Тюремный гений чистой красоты, —
В ее глазах горят огнем понты Амура —
Судьбы моей,
Судьбы моей,
Судьбы моей корявые понты.
2004 год
Вышел я из метро и пошел
по центральной дороге,
И случайно в толпе уронил
свой большой кошелек.
А как поднял глаза, увидал
эти самые ноги
И я понял, что нету на свете
красивее ног.
Чулочек расписной —
Такой не спрясть ни в жисть,
А я насквозь блатной,
Вчера откинувшись.
Я сказал ей слова, и она
улыбнулась мне мило,
Как должна улыбаться однажды
злодейка-судьба.
И внутри у меня что-то больно
и сладко заныло,
И в мозгах приключилась какая-то,
прямо, стрельба.
Чулочек был на ней —
Глаз прямо не отвесть,
А я блатных блатней,
На пантомимах весь.
И пошел я за ней и глядел, и глядел
ей тайком в полу,
И она повела меня так, как
проводят слепых.
И когда чем-то твердым в парадном
мне дали по кумполу,
Эти милые ножки изящно мне
пнули под дых.
Чулочек был цветной
И фраеров – лишка,
А я, насквозь блатной,
Взял их на перышко.
И сирены вокруг, и огни замигали,
как в цирке.
А потом, как обычно, что даже
рассказывать лень.
Но когда я шагал коридором
знакомой Бутырки,
Вспоминал почему-то лишь этот
сиреневый день.
Чулочек тот смешной,
Что по ноге – плющом.
И я такой блатной —
На 10 лет еще.
2003 год
Мусолил старую гармошку
Сосед по дому дядя Шплинт,
Щипал на картах понемножку
И на раздачах делал финт.
Сидел, как водится, конечно,
За убеждения, как встарь.
А первый друг его сердечный
Был циклопический кнопарь.
И говорил нам дядя строго:
«Краснеть не хочешь – не виляй.
Не можешь резать – нож
не трогай,
Сидеть не хочешь – не стреляй!»
Но это было б все – цветочки,
Когда бы не дал бог ему
Обворожительнейшей дочки,
И от другого, по всему.
И как-то раз, когда за полночь,
Он нас застукал втихаря,
Зажег огонь, сказал: «Бог
в помощь…», —
И начал резать все подряд.
И говорил нам дядя строго:
«Краснеть не хочешь – не виляй.
Не можешь резать – нож
не трогай,
Сидеть не хочешь – не стреляй!»
И с той поры своим кинжалом
Грозил до Страшного Суда.
Она из дома убежала
И не вернулась никогда.
А дядя сел. И в старой хромке,
Бог весть запроданной кому,
Пылились клавишей обломки
И так скучали по нему.
1995 год
Я не бывал в Монако —
Хоть было на уме,
И черту на рогах
Я б тоже был не мил.
Зато я был, однако,
На речке-Колыме
И прямо в сапогах
По золоту ходил.
Я не бывал в Монако,
И, может, до седин
Рулетки ни одной
Мне в нем не закружить.
Зато я был, однако,
За медный грош судим,
И послан был страной
У золота пожить.
Я не бывал в Монако,
Лихой забавы для,