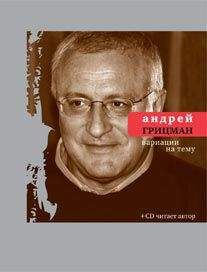Вновь я посетил
Мой хрусталик устал,
не говоря уж о правой руке.
Не читая с листа,
я теперь ухожу налегке
в те места, где судьба
инвалидом поёт в поездах
и где вместо страховок
бережёт нас родимый Госстрах.
Я устал, и хрусталик устал,
и рука. Но когда я вернусь,
меня ждут дорогие друзья:
восемь Лен и Володь,
Оля, выводок Ир.
Словно трейном в Москву
в парники наших зимних квартир.
Погостить до седин,
выдыхая забытую жизнь,
где играли навылет друг с другом
один за другим.
Сколько зим напролёт!
И знали лишь сторожа,
как свежа одинокая ночь, как свежа,
и как сладок отечества
в лёгких клокочущий дым,
и как сторож не спит никогда,
сам собою храним,
потому что один.
Над всей Испанией безоблачное небо.
Век кончился. Осталось меньше года.
Смысл жизни остаётся где-то слева,
у дачного загадочного пруда.
Над всей Голландией плывут головки сыра,
над пагодами домиков имбирных.
Там сдобный запах дремлющего мира,
он в перископе видится двухмерным.
Над всей Россией тучи ходят хмуро,
и в магазинах «появилось сыра».
Идут войска на зимние квартиры,
и на броне ржавеет голубь мира.
Над всей Малаховкой летают девки круто,
над зеленью прудов пристанционных.
Внизу в шкафах с тоской звенит посуда,
и мужики вздыхают исступлённо.
Над всем Китаем дождь идёт из риса,
но в атмосфере не хватает сыра.
По всей Евразии летает призрак мира
подобием дощатого сортира.
Летит над США ширококрыло пицца
с салями и, конечно, с сыром.
За ней следит патрульная полиция
с сознаньем веры, верности и силы.
В Канаде – там идут дожди косые,
густые, как на площади Миусской,
где сладковатый запах керосина
стоит сто лет и продают сосиски.
Над Средиземноморьем голубое
разорвано пурпурно-серым взрывом.
Фалафель там сражается с хурмою,
сулаки бьются с хумусом и пловом,
но, как всегда, нейтральны помидоры.
Над Гибралтаром вьётся истребитель,
взлетевшая душа 6-го флота.
В компьютере там есть предохранитель.
Он нас предохраняет от ошибки,
чтоб не пришлось начать всё это снова
и, встав с колен в той безымянной дельте,
следить над головой за тенью птицы,
парящей и рассеянной в полёте.
Глядишь – и улетит, нас не заметив,
к далёкой, нам неведомой границе.
Я, как всегда, один лечу безбожно
над океаном, беспредельно-снежным.
Двойное виски ставлю осторожно.
На стюардессу я гляжу безгрешно,
как на заливы Северной Канады,
и мир пульсирует на телепанораме.
Так славно ощущать себя агентом
Антанты, в белой пробковой панаме,
Джеймс-Бондом в лёгкой шапке-невидимке.
И, пролетев над Англией, как ангел,
в Италии остаться у залива
случайно и как будто по ошибке.
И пить кампари, чтоб не опознали.
В вечернем баре девке в мини-юбке
слегка и бескорыстно улыбнуться
с надеждой, чтобы, опознав,
ещё налили.
Имперских зданий сталинская стать.
Как будто мир на цыпочки привстать
пытается, к Свободе дотянуться.
Но миром правит хладный лицедей
и на ночь прочно закрывает остров.
Бесплотный лёт судьбы, её прозрачный остов
растают в вечереющей воде.
И странно, что так хочется вернуться
в обшарпанный обманом зал суда,
где отделяет мутная слюда
холодной плёнкой мастерскую чувства.
Благословенна эта пелена,
верней, туман, в котором наши души,
спасённые, предел судьбы нарушив,
осознают, что горе от ума.
Благодарю за каждый мёртвый час
осмысленно-пустого ожиданья.
Но, видимо, никто не ожидает
её, меня, да каждого из нас!
И как бы мне хотелось сна незнанья,
как чашки кофе чёрного с утра.
Где длятся чаепитий вечера?
Где тянется табачный дух беседы?
Всё это было будто бы вчера.
Лет двадцать, а всё кажется,
что в среду.
Когда остынет звук, когда остынет,
когда луна осенний ножик вынет
и память виноватого найдёт,
озимые, где слабых бьют навзлёт,
замёрзнут наконец,
и ночь закатом,
печалью царственной
отметит этот холм, —
там всё останется.
И на затихший дом
сойдёт покой,
и только запах быта
оставит след в душе
молочно-мутный.
Там живших
след простыл
и ставня, как бельмо,
глядит на лес
сквозь пепельное утро.
Но также в пустоту,
в разбитое окно.
В погасшем бездонном зале – море немых голов,
лишь два лица светятся, – Боже, спаси.
Все затаились, ждут сокровенных слов.
Но не дождёшься в сумерках, как ни проси.
Светятся лица их в пустой темноте,
словно родное слово в сверхзвуковой сети,
кто-то собрался спеть, но вовсе не те, не те.
В этой молве таких губ в толпе не найти.
Свечи мерцают вслух, и стекленеет зал,
горстью рябых монет звенят наобум.
Я до того от стоячей воды устал,
мне до предсердия сердце заполнил шум.
В этом зале мерцают две пары текучих глаз,
две осаднённых души, заговоривших вхрип.
Так постепенно светлел безнадежный зал.
В эту ночь мне приснилась пара летучих губ.
Мне снился сон про нашу жизнь,
и было жаль, что это только сон.
Там Гандельсман и Mандельштам
несли подержанный диван.
Там Пастернак переeзжал,
и в Квинс ушёл вагон.
По парку, мокрая насквозь,
бежала в неизвестность дочь
озёрного царя
и улыбалась вслед.
Тянулся с ярмарки народ,
Блок шёл на обед.
Вшит в добровольческий мундир,
пустой жевал мундштук.
В ночи горел неоном сыр,
звук был морозно-сух.
Машинская несла морковь
сквозь стынущий Ньюарк
по бессарабице дворов
под временный кирпичный кров.
И было пусто, но светло
идти сквозь чуждый мрак.
Там месяц, словно уркаган,
выл в атлантический туман
на странный абрис звёзд.
Он безнадёжно пропадал,
но, выпив, сжалилась судьба —
он девой был спасён.
Безмолвен сумеречный дом.
Алейник с Друком спят вдвоём,
как только в детстве спят.
Во двор двенадцать негритят
бегут, как свора октябрят
бежит на Первомай.
Я спал и видел, что в окне
на тёплом сумеречном дне
мерцал обычный рай.
Чужого не было лица.
Потом я повстречал отца.
Он что-то мне сказал.
И засмеялся, и просил
почаще заходить
на чай, на рюмку, на стихи,
на дачный керосин.
А я проснулся, позабыв,
что был совсем один.
Читал в кровати до утра
ночную книжку, пару глав,
про то, как я не жил.
Который год над городом висит промокший войлок.
За горизонтом безнадёжно сушат порох.
Молчит «Аврора». Медленный Гудзон
трепещет. Газолиновые волны
щемящей дымкой улетают вдаль:
к Неве, Ньюфаундленду, за полярный круг,
где шапкой термоядерного взрыва
сияние небес висит невыносимо.
Новая Земля: мишень Хрущёва —
непостижима в водородной гари.
А с Ноева ковчега зырят твари,
как экскурсанты с борта корабля.
Конец столетья. Ликованье душ
вольноотпущенниц решением ОВИРа.
Зелёный мягкий пропуск на три мира,
где гражданин, и всуе обиватель груш,
свободен в выборе истории и сыра.
Открытый мир нас ждёт, разинув пасть,
и мы готовы сладостно упасть
в глухую ностальгию невозврата,
к любым воротам, где нас больше нет.
Дана одна лишь жизнь,
в чём мы не виноваты.
Я – в аэропорту у дикого плаката
«Air India» с гагаринской улыбкой,
с тобой невстречи жду в конце эпохи зыбкой,
невстречи жду с тобой,
печален, счастлив, нем.