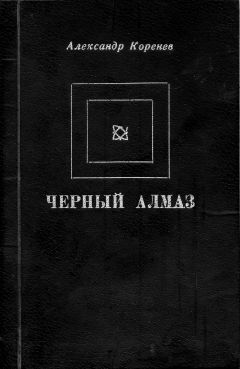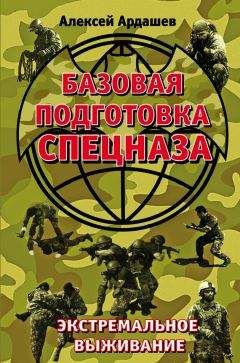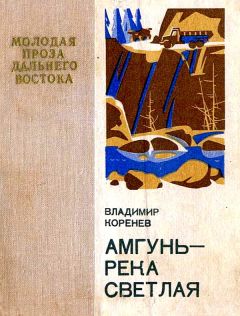важно и отважно!
Степь. Все завьюжено, окружено...
В снегу фламинго, позы их как вазы
На скудном озере Кургальджино.
Казахстан, 1967.
Тусклее все клоки огня.
Костер мой ночной догорает.
Одна — все еще сияет
В седой паволоке,
синя,
Последняя головня!
Горит, все еще горит!
По ней пробегают искры,
Как пальцы у кларнетиста.
О этот огнистый
неистовый,
Предсмертный ритм!
И сонно впадая в транс,
Клонюсь, колени обхватывая,
Как будто в бездну заглядывая.
Пой мне,
головешка гранатовая,
Свой погасанья романс.
Вдруг дунуло резко, с рек
С небывалой силою!
И искры взвились, трассируя,
И вновь
неугасимое
Прянуло пламя вверх.
И руки свои простер
В небеса костер.
Все вспышкой
овеяв
своею...
Я верю ему! Я верю!
февр. 1985.
Пустынно побережье, мель в янтариках.
Вдруг, на момент, пунктирна и легка,
Над морем понеслась птичья стайка,
Как будто иероглифов строка.
Так незаметно и так рассеянно,
Где голубая выпуклая высь...
И пронеслась так быстро и бесцельно,
Как неба подсознательная мысль.
Как четкий титр, на экране вечном.
Она о чем? Кто может прочитать?
Вот пронеслась, так стройно и беспечно...
И в необъятность канула опять,
Над морем, над полупустынным пляжем...
Уж не таит ли, грозя бедой,
Весть о земном существованьи нашем
Промельк — той клинописи — над водой? —
1987.
Последнее солнце, вечер,
Блеск его так нестерпим!
Я грею спину и плечи,
Не в силах расстаться с ним.
Всю рощу алое зарево
Пронзило клинками лучей.
Чем меньше в небе огня его,
Тем греет оно горячей.
Как яростна лава заката
В кусках, в языках огня!
Прощай, моя рощица, надо
Расстаться, подняться с пня.
Последнее солнце, вон оно
За горизонтом, тоска...
А так горячо и ознобно
Ласкает! Ведь ночь близка.
1980.
Я перебежчик! Я тот ходок,
Что дует в даль, вздыхая часто.
Перебежал я рубеж годов:
Ведь каждый возраст — иное царство.
Как за спиной оставляют запад,
Вкрался я в пожилых заповедник.
А еще лет с десяток назад
Я жил в государстве тридцатилетних.
Глядел оттуда (помню чувство)
В страну — которым сверх сорока.
Она казалась мне вовсе чуждой,
Безмерно от меня далека!
Страна каких-то скучных, ветхих...
Такой, казалась, небось, и им —
Сорокалетникам тем чужим —
Страна пятидесятилетних?
А я все тот же! Я ни на миг
Не присмирел, не обмяк бесстрастно.
Я поезд, мчащийся напрямик
Сквозь разных возрастов государства.
Лишь бы он ехал — чуть-чуть потише,
Чтобы я видел, как сосны дышат,
Крыши, где стаями, к высоте,
Стоят фламинго антенных Т,
А полем солнечным — полз бы сонно,
И ждал, и простаивал, все смирней,
На полустанках летних сезонов,
У семафоров чудесных дней.
Чтоб надышался я в просторах этих!
В полях, где столько цветов кругом!
(Нарвать, пока стоит вагон!)
Чтоб не мелькали десятилетья,
Как Бельгия, за перегон.
1967.
Царство гор: я никогда такой
Не видал еще гигантской ломки!
Складки гор: это в рапидной съемке
Схватка
рукопашная
веков.
Вскиды гор: космические знаки?
Скал атака, скачка вдалеке...
Горы: волны замерли на взмахе,
Горы —
это море
в столбняке.
Взрыв под облака, фонтан планетный
По бегущим босиком богам.
Горы: вдруг
заела
кинолента,
Где показывался ураган.
Скулы скал, и кулаки, подковы...
А если окинуть с облаков?
Вам понятно, что такое горы?
Каменная
паника
веков.
1964.
Ваятелю Васильеву
Женщина, когда лежит,
Становится намного лучше:
Юнеет ее внешний вид
И ее линии... певучее...
Ведь скрыто, что она скучна,
Вальяжною волною тела.
Когда она лежит, она
Выигрывает, королева!
Нескладная, мешок мешком,
И то приближена к мадонне,
Когда она лежит ничком,
Закинув за голову ладони.
И даже тощая метла,
Иль слишком толстая, саженная,
Становится, когда легла,
Возвышенна и совершенна!
Везде — когда лежит пластом —
Магически преобразится:
Нагая на берегу пустом
Или на сене в юбке ситцевой.
Как речке, вспыхивая, бежать,
Как полю опушаться в снежное,
Так женщине идет лежать,
Раскидывающейся, разнеженной.
Так в чем секрет... В иллюзии лишь?
В ракурсе?
Все равно, божественна,
Божественна, когда лежишь,
Пластика линий твоих, женщина.
1968.
Нас платформа уносит в ночь.
Бабы-вдовы, солдатки — вповалку.
Вот и я курсирую вновь
В госпитальной шинелишке жалкой.
Вот прижат теснотой — к одной, —
По-крестьянски суровой, крепкой.
В тьме лишь губ ее грубая лепка,
Да и то отвернулась спиной.
Рвусь, хочу, так весь сгоряча
Растворился бы в ней, свирепо..:
А платформа, в грохоте мча,
Словно взносится в звездное небо;
Не как синий, к земле, звездопад,
Не петрарковый зов — к Лауре,
К ней — родной, посторонней, дуре
Жадной силой впотьмах прижат.
Тетки спят, в головах сидора!
Ночь летит громогласно, грозно.
Вон трассируют звезды, космос...
Так и я вдруг сгорю до тла!
Мчим над бездной. Мост бездонно
Проорет!.. А она, клубком,
Длинноногой топорной мадонной
Спит, укутав лицо платком.
Вся война и вся высь, светясь,
Обступают... А она, лежа,
Мчит, от мира отворотясь:
От детей, от потерь, от бомбежек.
Отстраняясь — ночной покой —
От всех бед, от побед, объятий.
И сама, пожалев, «солдатик!»,
Обнимает вдруг жесткой рукой.
1944, 71.
Она поступала, наверное, мудро.
Ночью
за аэродромную гладь
Ходила гулять.
Приходила под утро.
И было ей на мое запрещенье плевать.
Радистка! В уме ее тайные коды.
А в памяти школа, последний вальс...
Мы ждали приказа.
Ждали
погоды.
И даже спали не раздеваясь.
Как вызвездило!
Значит, вылет близко.
Уходит
в обнимку с любимым
радистка,
Накинув на плечи его пиджак.
Земляк ее? Встретила кого-то?
Десантницы до рассвета нет...
Влюбилась она
за два дня
до отлета,
Впервые
в свои девятнадцать лет,
Как будто предчувствуя,
что больше нет ей
Счастья, что упадешь — не встать,
Как будто стараясь
в денек
последний
Свое —
за целую жизнь —
наверстать!..
Является шалая, росой унизана,
В глазах так и плещется счастья жар.
Но, полон
мальчишеского
аскетизма,
Я этих прогулок
ей не прощал.
Когда мы — прыгнули,
когда нас — предали,
Когда — не выскользнешь из кольца,