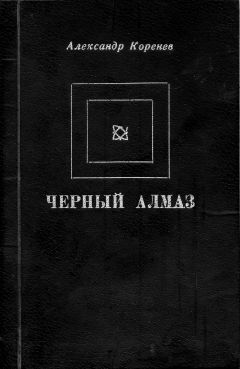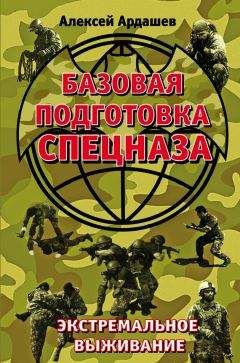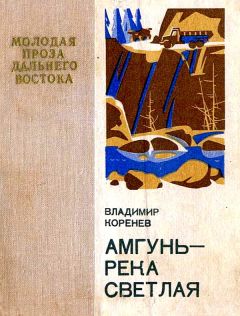МАМА
В детстве кажутся вечными
детство и мать.
Ничего не успел о тебе узнать!
Ничего не успел, навсегда виноват,
А когда спохватился —
поздно, Солдат!
Поколенье построено... Шинели хрустят.
И уже четверть века
живу без тебя,
Все теперь
передумывая наново,
Мама моя, Софья Романовна!
Мне в трамвае еще:
«Молодой человек!»
Просто выгляжу так...
Но ведь сколько вех!
Ну, не молод, мол, годы, как птицы...
Ну, за сорок,
это может с каждым случиться.
Нет! Я молод...
И даже больше:
я слаб!
Инфантилен и робок,
как ребенок и раб.
Беден? Я?
Я весь мир охватом косым
Забираю,
как бредень,
как Божий сын.
Только толстым и наглым
стать я не смог.
Не хватило...
До старости лет щенок.
И не скажет вдовица
в углу домовитом,
Теплой печью пропахшем
и полом мытым,
С благолепием подушек и ленью кота,
Что мужчина самостоятельный, да,
Положительный...
Так не скажет покуда...
Для людей,
суть вещей понимающих туго,
Что-то есть во мне не такое, не так,
Что пугает их, бесит, обманывая.
И я все еще сын,
беззаботный босяк,
Моя мама, Софья Романовна,
В детстве кажутся вечными
детство и мать.
Ничего не успел,
только помню опять,
Только вижу:
с авоськой плетешься домой,
И наверно, не старой была,
хоть седой.
А теперь и я стал седоват,
Сам, наверное, стал стареть и сдавать.
На душе у меня беспокойство одно,
Будто зимний вокзал,
где разбито окно.
Дует, холодно, пусто... Вечерний снег.
И давно уже мамы на свете нет.
В 6 и 7
Тревогу жизни по боку,
К встрече с чудом
Лечу сейчас,
Жесть на элеронах подоконника
От луча косого горяча.
Вместе с солнцем,
И сквозь фортку дунувшей
Свежестью, откуда-то с реки,
По утрам все люди — юноши,
К вечеру все люди — старики.
Взнесся
реактивный с ревом!
Как полоска его легка,
Сушатся на его веревке
Прополосканные облака...
Сияй! Каскадами огня оранжевого
На нас, с небес,
Обрушиваясь и лья...
Есть в утре
свежесть только что отглаженного
С морозу полотняного белья.
Зверю надо падали и логова.
Птице надо по небу кружить.
Ну а человеку разве много
Надобно от жизни?
Только жить!
Прямо в жизни — а не на бумаге —
Правды надо. Друга на пути.
Надо распахнуть
ему,
бродяге,
Душу —
как рубаху на груди.
Чтобы реял голос неиспетый,
Чтобы волос реками пропах,
Чтоб
не пропадала
к жизни этой
Сволочная проголодь в зубах!
Кубометра почвы надо явору,
А у человека путь далек.
Всех колдобин
надо ему, дьяволу,
Всех
росой обрызганных
дорог.
Хлеба счастья
черного, простого —
Не огрызки, не сшибать куски —
Да нарзан
морозного
простора
В глотку лить,
как в жадные пески.
Чтобы жить
ухватисто и броско,
И любя работу и гульбу,
Так ломать,
как гвоздь вгоняют в доску,
Всю свою угластую судьбу!
Когда берет
На Бога,
на испуг —
За горло — в оборот —
беда, неистова,
Не забивайся в угол, друг,
Не укрывайся в дом —
беги ты из дому.
В любви развал или насмарку труд —
Обратно, в тихую обитель быта,
Не лезь — затравленно —
как зверь в нору.
Скуля, вползает с лапой перебитой.
А ты иди!.. В свет или тень...
вперед!
Куда глаза…
В жизнь!.. В человечье месиво,
Где потрудней еще живет народ,
А весел все же,
головы не вешая.
Беги,
веселой злобой обуян,
Ты
из домашнего угара прямо
От рюмок, утешений, окон, рам...
Так корабли
во время урагана
Спасаются
в открытый океан.
1961.
По ипподрому чешут лошади,
Стучат копыта о планету.
Толпа, кого тут только нету!
Фарцовщики, пропойцы дошлые,
Девицы, города обглодыши.
Дельцы.
И токари по хлебу.
Заезды новые, колясками...
От будущих потерь потея,
Вставные челюсти залязгали,
Студни зрачков ожестенели.
Над гаревой дорожкой — вой,
Вопеж
вслед скачке
вихревой!
Прут первые! Храпя. И глядя
Перед собой, выкатив бельма.
Во, жеребцы!..
А кто-то
сзади,
Один, трусит себе отдельно.
На всадника на сивке маленькой
Не смотрят, интереса нет.
Лишь малолетние карманники
Ему улюлюкают вослед.
Куда ему, от всех отстал!
Конь стар? Или наездник сдал?
Забыты кличка и даже номер.
Но кто-то из судей, присев,
На время его глянул, обмер:
Да он же
обогнал их всех!
Пусть лупит публика ладошами,
Приняв за чистую монету,
Как фаворитно чешут лошади.
Стучат копыта о планету.
И лишь насмешливость во взгляде
Жокея, что в конце пути.
Он потому и скачет
сзади,
Что на два круга
впереди.
1964.
Вот на снегу стоят фламинго,
В снегу — и розовые фламинго?
Они так нереальны в этот час,
Где снежность лишь, кристаллами лучась
Вокруг. И птицы странные... Откуда?
Где только льда голодная простуда,
Где лишь пороши синее пшено
На зимнем озере Кургальджино.
В сугробах неподвижно, одиноко.
Поочередно одну из двух
Бамбуковую поджимая ногу,
Чтобы согреть, наверно, о свой пух,
И начинается вдруг завируха,
Та, за Уральском, за морем Аральским,
Гулким оранием... но тихо, глухо...
Пока лишь вскуриваясь по овражкам.
Метели назреванье — в зимней темени —
А как накроет, и конец, в момент.
Ну почему они не улетели?
Кто объяснит мне этот феномен?
Фенолог, смолкни, скептик, не ликуй...
Я видел сам, из кузова, замерзнув:
Стоят фламинго босиком в снегу,
Не улетают в беловатый воздух.
Пронзительно, торжественно, прекрасно,
Причудливые, розовые, сон!
Вот взмоют, кажется, спугнуть их страшно!
И с звоном в прах
рассыплются
стеклом.
Я после понял: не успели, п о з д н о,
Пурга настигнет все равно в пути.
Инстинкт сказал: уж лучше сон морозный...
Или надменность их, а не инстинкт?
Так надо гибнуть,
важно и отважно!