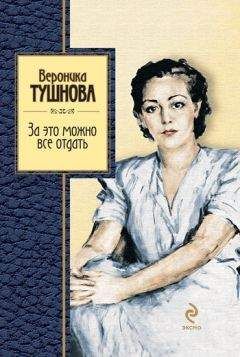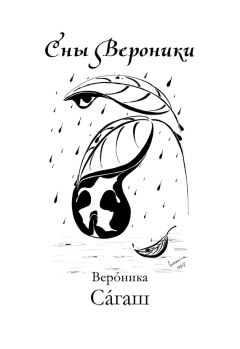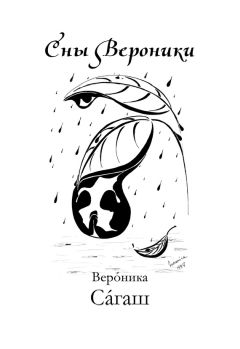1953 год. С дочерью.
Не сули мне
золотые горы,
годы жизни доброй
не сули.
Я тебя покину очень скоро
по закону матери-земли.
Мне остались считанные весны,
так уж дай на выбор,
что хочу:
елки сизокрылые, да сосны,
да березку – белую свечу.
Подари веселую дворняжку,
хриплых деревенских петухов,
мокрый ландыш,
пыльную ромашку,
смутное движение стихов.
День дождливый,
темень ночи долгой,
всплески, всхлипы, шорохи
во тьме…
И сырых поленьев запах волглый
тоже, тоже дай на память мне.
Не кори, что пожелала мало,
не суди, что сердцем я робка.
Так уж получилось, —
опоздала…
Дай мне руку!
Где твоя рука?
Шагаю хвойною опушкой,
и улыбаюсь, и пою,
и жестяной помятой кружкой
из родничка лесного пью.
И слушаю, как славка свищет,
как зяблик ссорится с женой,
и вижу гриб у корневища
сквозь папоротник кружевной…
Но дело-то не в певчих птицах,
не в роднике и не в грибе, —
душа должна уединиться,
чтобы прислушаться к себе.
И раствориться в блеске этом,
и слиться с этой синевой,
и стать самой
теплом и светом,
водой,
и птицей,
и травой,
живыми соками напиться,
земную силу обрести,
ведь ей века еще трудиться,
тысячелетия расти.
Я прощаюсь с тобою
у последней черты.
С настоящей любовью,
может, встретишься ты.
Пусть иная, родная,
та, с которою – рай,
все равно заклинаю:
вспоминай! вспоминай!
Вспоминай меня, если
хрустнет утренний лед,
если вдруг в поднебесье
прогремит самолет,
если вихрь закурчавит
душных туч пелену,
если пес заскучает,
заскулит на луну,
если рыжие стаи
закружит листопад,
если за полночь ставни
застучат невпопад,
если утром белесым
закричат петухи,
вспоминай мои слезы,
губы, руки, стихи…
Позабыть не старайся,
прочь из сердца гоня,
не старайся,
не майся —
слишком много меня!
Мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
Больно многого хочешь,
нету людей таких.
Зря ты только морочишь
и себя и других!
Говорят: зря грустишь,
зря не ешь и не спишь,
не глупи!
Все равно ведь уступишь,
так уж лучше сейчас
уступи!
…А она есть.
Есть.
Есть.
А она – здесь,
здесь,
здесь,
в сердце моем
теплым живет птенцом,
в жилах моих
жгучим течет свинцом.
Это она – светом в моих глазах.
Это она – солью в моих слезах,
зрение, слух мой,
грозная сила моя,
солнце мое,
горы мои, моря!
От забвенья – защита,
от лжи и неверья – броня…
Если ее не будет,
не будет меня!
…А мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
так и ты живи!
А я никому души
не дам потушить.
А я и живу, как все
когда-нибудь
будут жить!
«Пускай лучше ты не впустишь меня…»
Пускай лучше ты не впустишь меня,
чем я не открою двери.
Пускай лучше ты обманешь меня,
чем я тебе не поверю.
Пускай лучше я в тебе ошибусь,
чем ты ошибешься во мне.
Пускай лучше я на дне окажусь,
чем ты по моей вине.
Пока я жива,
пока ты живой,
последнего счастья во имя,
быть солнцем хочу
над твоей головой,
землей —
под ногами твоими.
«Не опасаюсь впасть в сентиментальность…»
Не опасаюсь впасть в сентиментальность,
для нас с тобой такой угрозы нет.
Нас выручает расстояний дальность,
число разлук, неумолимость лет.
Нам ничего судьба не обещала,
но, право, грех ее считать скупой:
ведь где-то на разъездах и причалах
мы все-таки встречаемся с тобой.
И вновь – неисправимые бродяги —
соль достаем из пыльного мешка,
и делим хлеб, и воду пьем из фляги
до первого прощального гудка.
И небо, небо синее такое,
какое и не снилось никому,
течет над нами вечною рекою
в сплетеньях веток, в облачном дыму.
1955 год.
«А может быть, останусь жить…»
А может быть, останусь жить?
Как знать, как знать…
И буду с радостью дружить?
Как знать, как знать?
А может быть, мой черный час
не так уж плох?
Еще в запасе счастья часть,
щепотка крох…
Еще осталось: ночь, мороз,
снегов моря
и безнадежное до слез —
«Любимая!»
И этот свет, на краткий миг,
в твоем лице,
как будто не лицо, а лик
в святом венце.
И в три окна, в сугробах, дом —
леса кругом,
когда февраль, как белый зверь,
скребется в дверь…
Еще в той лампе фитилек
тобой зажжен,
как желтый жалкий мотылек,
трепещет он…
Как ночь души моей грозна,
что делать с ней?
О, честные твои глаза
куда честней!
О, добрые твои глаза
и, словно плеть,
слова, когда потом нельзя
ни спать, ни петь.
Чуть-чуть бы счастья наскрести,
чтобы суметь
себя спасти, тебя спасти,
не умереть!
«Человек живет совсем немного…»
Человек живет совсем немного —
несколько десятков лет и зим,
каждый шаг отмеривая строго
сердцем человеческим своим.
Льются реки, плещут волны света,
облака похожи на ягнят…
Травы, шелестящие от ветра,
полчищами поймы полонят.
Выбегает из побегов хилых
сильная блестящая листва,
плачут и смеются на могилах
новые живые существа.
Вспыхивают и сгорают маки.
Истлевает дочерна трава…
В мертвых книгах
крохотные знаки
собраны в бессмертные слова.
«Терпеливой буду, стойкой…»
Терпеливой буду, стойкой,
молодой, назло судьбе!
Буду жить на свете столько,
сколько надобно тебе.
Что тебе всего дороже,
то и стану я дарить.
Только ты меня ведь тоже
должен отблагодарить —
молодым счастливым взглядом
в тихом поле, при луне,
тем, что ты со мною рядом —
как с собой наедине.
Правдой сердца, словом песни,
мне родной и дорогой,
даже если, даже если
ты отдашь ее другой.
«Нельзя за любовь – любое…»
Нельзя за любовь – любое,
нельзя, чтобы то, что всем.
За любовь платят любовью
или не платят совсем.
Принимают и не смущаются,
просто благодарят.
Или (и так случается!)
спасибо не говорят.
Горькое… вековечное…
Не буду судьбу корить.
Жалею тех, кому нечего
или некому
подарить.
«Знаю я бессильное мученье…»
Знаю я бессильное мученье
над пустой тетрадкою в тиши,
знаю мысли ясное свеченье,
звучную наполненность души.
Знаю также быта неполадки,
повседневной жизни маету,
я хожу в продмаги и палатки,
суп варю, стираю, пол мету…
Все-таки живется высоко мне.
Очень я тебя благодарю,
что не в тягость мне земные корни,
что как праздник
праздную зарю,
что утрами с пеньем флейты льется
в жбан водопроводная вода,
рыжий веник светится как солнце,
рдеют в печке чудо-города…
Длится волшебство не иссякая,
повинуются мне
ветер, дым,
пламя, снег и даже сны,
пока я
заклинаю именем твоим.
«За водой мерцает серебристо…»
За водой мерцает серебристо
поле в редком и сухом снегу.
Спит, чернея, маленькая пристань,
ни живой души на берегу.
Пересвистываясь с ветром шалым,
гнется, гнется мерзлая куга…
Белым занимается пожаром
первая осенняя пурга.
Засыпает снег луга и нивы,
мелкий, как толченая слюда.
По каналу движется лениво
плотная, тяжелая вода…
Снег летит спокойный, гуще, чаще,
он летит уже из крупных сит,
он уже пушистый, настоящий,
он уже не падает – висит…
Вдоль столбов высоковольтной сети
я иду, одета в белый мех,
самая любимая на свете,
самая красивая на свете,
самая счастливая из всех!
Было, было – ночи зимние,
черных сосен купола…
Невообразимо-синяя,
надо всем звезда плыла.
На путях преград не ведая,
навсегда себе верна,
над обидами, над бедами,
над судьбой плыла она.
Над холмами, над пригорками,
над гудроном в корке льда,
над бессонницами горькими,
над усталостью труда,
опушенная сиянием,
в ледяной пустынной мгле,
добрым предзнаменованием
утешая душу мне.
Не сбылись ее пророчества,
но прекрасней, чем тогда,
над последним одиночеством
синяя плывет звезда.
Я сама себе кажусь девчонкой,
ни о чем не думая, живу.
Хлеб макаю
в банку со сгущенкой,
воду пью – и навзничь, на траву.
И лежу.
И отплываю в небо.
В небе тучек перистых косяк.
Их березы ловят, ловят в невод,
а они не ловятся никак.
Ускользают, уплывают тучки.
Пахнет сеном.
Около виска
серебрится пряжею паучьей
два колючих, сизых колоска.
Иногда уже привычный рокот,
грохот, рев на части воздух рвет.
Колесницею Ильи-пророка
небо прорезает самолет.
Косокрылый ТУ летит к столице.
Встряхнута земля, оглушена.
Но минута-две – и устоится
взбаламученная тишина.
Только слаще станет и бездонней,
только синь синей над головой…
И опять, опять твои ладони,
сны, заполоненные тобой.
«Над скалистой серой кручей…»