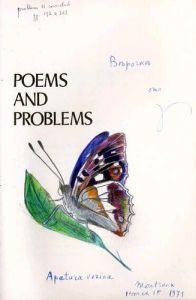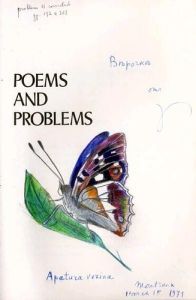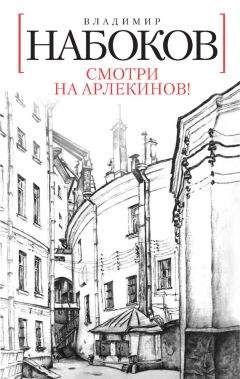10. «Я незнакомые люблю вокзалы…»
Я незнакомые люблю вокзалы,
Люблю вагоны дальних поездов.
Свист паровоза — властный зов.
Ночь. Мелкий дождь. Спешу я, запоздалый.
И в полночь вновь у чуждых городов
Вхожу один, взволнованно-усталый,
В пустынные, тоскующие залы,
Где нет в углу знакомых образов.
Люблю вокзалов призраки: печаль,
Прощаний отзвук, может быть, обманы…
Зеленый луч кидает семафор;
Газ бледен; ночь черна; безвестна даль.
Там ждут, зовут, тоскуют великаны.
Но будет миг: метнется алый взор.
11. «Вечный ужас. Черные трясины…»{*}
Вечный ужас. Черные трясины.
Вопль, исполненный тоски ночной.
Бегемота с шеей лебединой
Силуэт над лунною водой.
Тех существ — чудовищ без названья —
Кто тебе позволил пережить?
Кем тебе дано самосознанье,
Белый зверь, умеющий грешить?
Может быть, я эту знаю тайну:
Поутру, бродя в лесной глуши,
Острый камень ты нашел случайно
И впотьмах младенческой души
Боязливо, как слепой, пошарил,
Камень прочно к палке прикрепил,
Подстерег врага, в висок ударил
И задумался, когда убил.
12. «У мудрых и злых ничего не прошу…»
У мудрых и злых ничего не прошу;
Гляжу, улыбаясь, в окно
И левой рукою сонеты пишу
О розе… Не правда ль, смешно?
И всё, что написано левой рукой,
Весенним прочтут вечерком
Какой-нибудь юноша с ватной душой
И девушка с ватным лицом.
Я тихо смеюсь, беззаботный левша.
Кто знает, что в сердце моем?
О розе, о грезе пишу не спеша
В цветной, глянцевитый альбом.
Но та, что живет у ворот золотых,
У цели моей огневой,
Хранит на груди мой единственный стих,
Написанный правой рукой.
13. «Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит…»{*}
Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!
Как тесно яблоки висят!
Как бы сквозь них, блаженно солнце светит,
стекая в сад.
И сонный, сладостный в аллеях лепет слышен:
то словно каплет на песок
тяжелых груш, пурпурных поздних вишен
пахучий сок.
На выгнутых стволах цветные тени тают;
на листьях солнечный отлив…
Деревья спят, и осы не слетают
с лиловых слив.
Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?
Кто вертограда господин?
В тени аллей, один, лилейно-белый,
живет павлин.
<4 июня 1922>
14. «Придавлен душною дремотой…»
Придавлен душною дремотой,
я задыхался в черном сне.
Как птица, вздрагивало что-то
непостижимое во мне.
И возжелал я в буйном блеске
свободно взмыть, — и в сердце был
тяжелый шорох, угол резкий
каких-то исполинских крыл.
И жизнь мучительно и чудно
вся напряглась и не могла
освободить их трепет трудный —
крутые распахнуть крыла.
Как будто каменная сила, —
неизмеримая ладонь —
с холодным хрустом придавила
их тяжкий шелковый огонь.
Ах, если б звучно их раскинуть,
исконный камень превозмочь,
громаду черную содвинуть,
прорвать глухонемую ночь, —
с каким бы громом я воспрянул,
огромен, светел и могуч!
Какой бы гром в ответ мне грянул
из глубины багряных туч!
15. «Есть в одиночестве свобода…»{*}
Есть в одиночестве свобода,
и сладость — в вымыслах благих.
Звезду, снежинку, каплю меду
я заключаю в стих.
И еженочно умирая,
я рад воскреснуть в должный час,
и новый день — росинка рая,
а прошлый день — алмаз.
25 октября 1921; Кембридж
16. «Из блеска в тень и в блеск из тени…»
Из блеска в тень и в блеск из тени
с лазурных скал ручьи текли,
в бреду извилистых растений
овраги вешние цвели.
И в утро мира это было:
дикарь еще полунемой,
с душой прозревшей, но бескрылой, —
косматый, легкий и прямой, —
заметил, взмахивая луком,
при взлете горного орла,
с каким густым и сладким звуком
освобождается стрела.
Забыв и шелесты оленьи,
и тигра бархат огневой, —
он шел, в блаженном удивленьи
играя звучной тетивой.
Ее притягивал он резко
и с восклицаньем отпускал.
Из тени в блеск и в тень из блеска
ручьи текли с лазурных скал.
Янтарной жилы звон упругий
напоминал его душе
призывный смех чужой подруги
в чужом далеком шалаше.
И это было в утро мира,
и угасая, и горя,
казалось, призрачная лира
звенит в руках у дикаря.
17. «Я на море гляжу из мраморного храма…»
Я на море гляжу из мраморного храма:
в просветах меж колон, так сочно, так упрямо,
бьет в очи этот блеск, до боли голубой.
Там — благовония, там — звоны, там — прибой,
а тут на вышине — одна молитва линий
стремительно простых; там словно шелк павлиний,
тут целомудренность бессмертной белизны.
О муза, будь строга! Из храма, с вышины, —
гляжу на вырезы лазури беспокойной, —
и вот, восходит стих, мой стих нагой и стройный,
и наполняется прохладой и огнем,
и возвышается, как мраморный, и в нем
сквозят моей души тревоги и отрады,
как жаркая лазурь в просветах колоннады.
18. «Туман ночного сна, налет истомы пыльной…»
Туман ночного сна, налет истомы пыльной
смываю мягко-золотой,
тяжелой губкою, набухшей пеной мыльной,
благоуханной и густой.
Голубоватая, в купальне млечной-белой,
вода струит чуть зримый пар,
и благодарное я погружаю тело
в ее глухой и нежный жар.
А после, насладясь той лаской шелковистой,
люблю я влагой ледяной
лопатки окатить… Мгновенье — и пушистой
я обвиваюсь простыней.
Чуть кожа высохла — прохлада легкой ткани
спадает на плечи, шурша…
Для песен, для борьбы, для сказочных исканий
готовы тело и душа.
Так мелочь каждую — мы, дети и поэты, —
умеем в чудо превратить,
в обычном райские угадывать приметы,
и что ни тронем — расцветить…
19. «На черный бархат лист кленовый…»{*}
На черный бархат лист кленовый
я, как святыню, положил:
лист золотой с пыльцой пунцовой
между лиловых тонких жил.
И с ним же рядом, неизбежно,
старинный стих — его двойник,
простой и радужный и нежный,
в душевном сумраке возник;
И всё нежнее, всё смиренней
он лепетал, полутаясь,
но слушал только лист осенний,
на черном бархате светясь…
<7 декабря 1921>
20. «Нас мало — юных, окрыленных…»{*}
Нас мало — юных, окрыленных,
не задохнувшихся в пыли,
еще простых, еще влюбленных
в улыбку детскую земли.
Мы только шорох в старых парках,
мы только птицы; мы живем
в очарованье пятен ярких,
в чередованье звуковом.
Мы только смутный цвет миндальный,
мы только первопутный снег,
оттенок тонкий, отзвук дальний, —
но мы пришли в зловещий век.
Навис он, грубый и огромный,
но что нам гром его тревог?
мы целомудренно бездомны,
и с нами звезды, ветер, Бог.
<29 января 1922>
21. «Садом шел Христос с учениками…»{*}