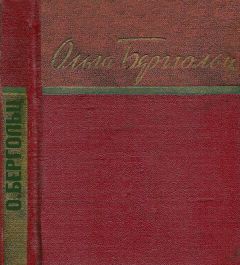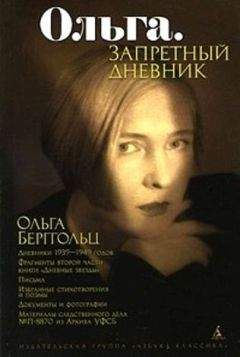Ноябрь 1952 г.
Песня о «Ване-коммунисте»
Памяти
Всеволода Вишневского,
служившего пулеметчиком на
«Ване-коммунисте» в 1918 году.
Был он складный волжский пароходик,
рядовой царицынский бурлак,
В ураган семнадцатого года
сразу поднял большевистский флаг.
И когда на волжские откосы
защищать новорожденный мир
прибыли кронштадтские матросы, —
приглянулся им лихой буксир.
И проходит срок совсем недолгий, —
тот буксир — храбрей команды нет!
флагманом флотилии на Волге
назначает Реввоенсовет.
Выбирали флагману названье, —
дважды гимн исполнил гармонист.
Дали имя ласковое — Ваня,
уточнив партийность: коммунист.
«Ваня» был во всем слуга народа,
свято Революции служил.
«Ваня» в легендарные походы
волжскую флотилию водил.
А страна истерзана врагами…
И пришел, пришел момент такой, —
у деревни Пьяный Бор на Каме
флагман в одиночку принял бой…
…Ой ты, красное, родное знамя,
над рекой на миг один склонись:
у деревни Пьяный Бор на Каме
тонет, тонет «Ваня-коммунист».
Он лежал на дне четыре года,
но когда оправилась страна, —
«Ваня-коммунист», слуга народа,
поднят был торжественно со дна.
Дышит Родина трудом и миром,
и по милой Волге вверх и вниз
девятнадцать лет простым буксиром
ходит, ходит «Ваня-коммунист».
Тянет грузы — все, что поручают,
работящ, прилежен, голосист…
Люди понемножку забывают,
чем он славен — «Ваня-коммунист».
Только взглянут — что за пароходик,
с виду старомоден, неказист?
Точно все еще в кожанке ходит
бывший флагман «Ваня-коммунист».
Он живет — не тужит, воду роет,
многих непрославленных скромней, —
вплоть до августа сорок второго,
вплоть до грозных сталинградских дней.
Дни огня, страдания и славы,
ливни бомб, и скрежет их, и свист…
И становится на переправу
старый флагман — «Ваня-коммунист».
Из пылающего Сталинграда
он вывозит женщин и ребят,
а гранаты, мины и снаряды
тащит из-за Волги в Сталинград.
Так он ходит, ветеран «гражданки»,
точно не был никогда убит,
в комиссарской старенькой кожанке,
лентой пулеметною обвит.
Так при выполнении заданья,
беззаветен, всей душою чист,
ночью от прямого попаданья
погибает «Ваня-коммунист».
Тонет, тонет вновь — теперь навеки, —
обе жизни вспомнив заодно,
торжествуя, что родные реки
перейти врагам не суждено…
…Друг, не предавайся грустной думе!
Ты вздохни над песней и скажи:
«Ничего, что „Ваня“ дважды умер.
Очень хорошо, что дважды жил!»
1953
Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.
Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина…
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!
Давно отгремели могучие ливни,
все отдано тихой и темною нивой…
Все чаще от взгляда бываю счастливой,
все реже и горше бываю ревнивой.
О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю… И все же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды все строже…
Вот видишь — проходит пора звездопада
и, кажется, время навек разлучаться…
…А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и
прощаться…
1956
Я все оставляю тебе при уходе:
все лучшее
в каждом промчавшемся годе.
Всю нежность былую,
всю верность былую,
и краешек счастья, как знамя, целую:
военному, грозному
вновь присягаю,
с колена поднявшись, из рук отпускаю.
Уже не узнаем — ни ты и ни я —
такого же счастья, владевшего нами.
Но верю, что лучшая песня моя
навек сбережет отслужившее знамя…
…Я ласточку тоже тебе оставляю
из первой, бесстрашно вернувшейся стаи, —
блокадную нашу, под бедственной крышей.
В свой час одинокий
ее ты услышишь…
А я забираю с собою все слезы,
все наши утраты
удары,
угрозы,
все наши смятенья,
все наши дерзанья,
нелегкое наше, большое мужанье,
не спетый над дочкой
напев колыбельный,
задуманный ночью военной, метельной, —
неспетый напев, — ты его не услышишь,
он только со мною — ни громче, ни тише…
Прощай же, мой щедрый! Я крепко любила.
Ты будешь богаче — я так поделила.
1956
Я вернулась, миленький,
на короткий срок,
а в глазах — сибúринка,
таежный огонек.
Тот, что мне высвечивал,
темно-золотой,
енисейским вечером
с той горы крутой.
Ты не сам ли, миленький,
отпустил меня.
Ты не ждал сибиринки —
нового огня.
Руки мои жадные
ты не удержал.
Слова долгожданного
ты мне не сказал…
Путь наш пройден-вымерен,
как река Нева:
ведь в глазах — сибиринка,
и она права.
Сыплет дождик сыренький,
дождик городской.
…Не покинь, сибиринка,
поздний праздник мой.
1959
I. «Темный вечер легчайшей метелью увит…»
Темный вечер легчайшей метелью увит,
волго-донская степь беспощадно бела…
Вот когда я хочу говорить о любви,
о бесстрашной, сжигающей душу дотла.
Я ее, как сейчас, никогда не звала.
Отыщи меня в этой февральской степи,
в дебрях взрытой земли, между свай
эстакады.
Если трудно со мной — ничего, потерпи.
Я сама-то себе временами не рада.
Что мне делать, скажи, если сердце мое
обвивает, глубоко впиваясь, колючка,
и дозорная вышка над нею встает,
и о штык часового терзаются низкие
тучи?
Так упрямо смотрю я в заветную даль,
так хочу разглядеть я далекое, милое
солнце…
Кровь и соль на глазах!
Я смотрю на него сквозь большую
печаль,
сквозь колючую мглу,
сквозь судьбу волгодонца…
Я хочу, чтоб хоть миг постоял ты со мной
у ночного костра — он огромный, трескучий
и жаркий,
где строители греются тесной гурьбой
и в огонь, неподвижные, смотрят овчарки.
Нет, не дома, не возле ручного огня,
только здесь я хочу говорить о любви.
Если помнишь меня, если понял меня,
если любишь меня — позови, позови!
Ожидаю тебя так, как моря в степи
ждет ему воздвигающий берега
в ночь, когда окаянная вьюга свистит,
и смерзаются губы, и душат снега;
в ночь, когда костенеет от стужи земля —
ни костры, ни железо ее не берут.
Ненавидя ее, ни о чем не моля,
как любовь беспощадным становится труд.
Здесь пройдет, озаряя пустыню, волна.
Это все про любовь. Это только она.
II. «Я сердце свое никогда не щадила…»
Я сердце свое никогда не щадила:
ни в песне, ни в дружбе, ни в горе, ни
в страсти…
Прости меня, милый. Что было, то было.
Мне горько. И все-таки все это — счастье.
И то, что я страстно, горюче тоскую,
и то, что, страшась небывалой напасти,
на призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно… И все-таки все это — счастье.
Пускай эти слезы и это удушье,
пусть хлещут упреки, как ветки в ненастье:
страшней всепрощенье. Страшней
равнодушье.
Любовь не прощает. И все это — счастье.
Я знаю теперь, что она убивает,
не ждет состраданья, не делится властью.
Покуда прекрасна, покуда живая,
покуда она не утеха, а счастье.
III. «…Пусть падают листки календаря…»