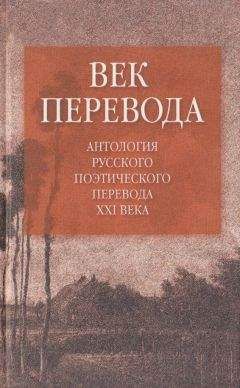Уединенное
Я облачаюсь в одиночество свое,
ничего, что рукава длинны, —
теплее нет одежды, для нее
ни стежки, ни булавки не нужны.
Мне некто одиночество скроил,
что боль и облик чувствует людей;
я в складках знак увидела, он был
таким, как шеи черных лебедей.
И пробудился взгляд внутри меня —
павлиний глаз, что крылышки смежил, —
он видит волны, что бегут, тесня
границы светлых дней и темных сил,
и увлажняют золото волос
эльфийской девы. Тянут в бездну вод.
И год, что сел на каменный утес,
как птица, в страхе дни свои зовет.
Так тихо здесь. Струится полотно,
что будет впору мне когда-нибудь.
И рыбы опускаются на дно,
цветными плавниками бьются в грудь.
Посеяны земные семена.
Плечо блестит рудою золотой.
Трепещущая легкость полотна,
мерцая, лоб охватывает мой.
Тигр ежедневный путь свой отмеряет
за шагом шаг.
Порой под вечер голод утоляет;
он здесь чужак.
Решетки сталь: за нею мир бесплотный
со всех сторон;
удар и крик, и мрак зимы холодной —
всего лишь сон.
Идет домой: забыв язык свободы,
скользит на свет.
И клетка мстит ему в момент ухода,
кидаясь вслед.
В немой тоске он вспыхивает ярко:
то боль была.
В полосках сажи золото огарка
свечи, сгорающей дотла.
МАША КАЛЕКО{48} (1907–1975)
Агота — две косички с сединой.
Агота наша всё на свете знала.
По пятницам нас бережно купала.
Агота — имя нянюшки родной.
Она носила платье изо льна
с баварским лифом с выцветшей канвою.
Так нежно песни старые порою
нам пела ломким голосом она.
Вела беседы с Богом напрямик.
Когда Он нас не жаловал вниманьем,
она спешила в храм на покаянье,
и — помогало вмиг.
Агота прожила свой век одна.
Любила нас. Еще кота любила,
которого в наследство получила
от батюшки покойного. Она
оставила и двор, и дом родне,
с ней Библия была и чувство долга.
Порой для нас букварь читала долго,
перебирая четки, как во сне.
Агота свойства трав целебных знала
и пользоваться знанием умела.
При виде городских врачей краснела —
больной потерян, так она считала.
Однажды ей открылось: все дела
окончены. Нет пятен на одежде,
в карманах — дыр, и выросли, кто прежде
нуждался в ней, кого она пасла…
— И Бог ее призвал. Она ушла.
Мой сад не вянет.
У меня нет сада.
Нет дома, где бы ветер плакал от досады.
Не причиняет боли туч свинцовых клетка,
поскольку небо вижу я и так довольно редко.
Я к звездам не стремлюсь уже, как прежде.
Мне газовый фонарь укажет путь к надежде.
Не огорчит беда, не впечатлит отрада.
Мне осень не страшна,
ведь у меня нет сада…
Эрнсту Ровольту
Тут я близка, темня и стих строгая,
к тому, что можно строки рифмовать,
бездумно посвящение слагая;
но «Ровольта» ни с чем не срифмовать!
Однако, мастер, я надеюсь, Вам
понятна ткань стиха без рифмы оной.
Дареным виршам, так же как коням,
не смотрят… в общем, в след строфы дареной.
Гороскоп оказывает услугу…?
По звездам может местный старожил
читать, как говорит он, предсказанья.
Пока не осознал свое призванье,
двенадцать лет он поваром служил.
Иной гешефт; но может он зато
с двух до шести предвидеть и пророчить.
«Созвездия не лгут. Вас не морочат!» —
гласит табличка на его авто.
Сатурн с Венерой видящему, к слову,
шестое чувство в дар преподнесли.
Но в звезды изменений не внесли;
вмешался Марс, как грозный участковый.
Тот гороскоп, что подготовил он,
сулит мне счастье вкупе с красным камнем.
Уже купила; ведь наверняка мне
придется счастья ждать со всех сторон…
Указано в бумаге с сургучом:
в зависимость частенько попадаю.
А если легкомыслием страдаю,
всё это — Космос. Я тут ни при чем…
ДЖОН КЛЭР{50} (1793–1864)
Под бурей гелиопсис гнется ветром,
Трепещет жимолость, скрывая венчик цвета,
Шиповник, несмотря на вид свой боевой,
Руке подвластен, хотя иглы под листвой,
Чертополох же — высоко несет узлы цветов,
Подобные плюмажу лошади, что в бой нестись готова,
Бросая вызов козням всем обок пути,
В лугах стоит, где скот пасется, не спеша уйти.
Помпезно, кучно заросли стоят,
В лесу опасность неизвестную таят,
На сельской улице, где низкий сплошь сорняк
Не может удержать свои сухие семена, бедняк,
Репейник высится, надменный и крутой,
И держит на себе цветков осиный рой.
КРИСТИНА ДЖОРДЖИНА РОССЕТТИ{51} (1830–1894)
Ужель любовь изменчива настоль,
Чтоб незабудок создавать юдоль
В садочке, клумбы где и травостой? —
Люблю свободный их обильный рост
У диких троп и необрезанных берез,
Киванье у поскотин и тынов
Иль у опасных, влагой полных берегов,
Где шпажник с медуницей нарушают строй
Подвижных кочек, где тростник растет густой.
Любви не учат в школе, и ее
Не раздают, как перед дракой дреколье;
К барьеру — или получить ответ? —
Настоль свободен незабудки цвет.
Дай мне огонь, не сырость и не гниль,
Страсть инстинктивного броска охолони,
Стань твердым, как застывшая звезда,
И нежным, словно голубь у гнезда,
Стань больше времени, сильнее смерти стань:
Сквозь муки творчества, сквозь пыточную сталь —
Тот стон ее — не от потребности дышать —
Забудешь-или-нет, любить и вопрошать.
ЭДВАРД ТОМАС{52} (1878–1917)
Старичок, Любовь Юноши — ничто в этих названьях
Не звучит для того, кто не знал Старичка,
Седовато-зеленую в перьях траву, чуть не деревце,
Что растет с розмарином, лавандою рядом.
И упертого знатока имена,
Чуть украсив траву, с толку могут сбивать:
Я сказал бы, влечет она не именами,
Сколько б это ни длилось. Но эти люблю имена.
Куст не нравится мне, но наверняка
Не чужой он мне, и его замечает малышка,
Обрывая листок возле самой двери,
В дом входя, из него выбегая в стотысячный раз.
Часто там ожидает она, у полыни сбивая вершки,
Что ложатся, скукожившись, на тропу, может — думает о своем,
Но, возможно, — бездумна девчонка, резко дунув
На пальцы и вновь убегая. А куст этот ростом
Лишь в полроста ее, хотя возрастом равен,
Хорошо обстригает девчонка его. Бессловесна она;
Мне приходит на ум, сколько лет еще помнить
Она будет былое с тем запахом горьким,
Те аллеи в саду и дамасскую сливу,
Что на изгородь оперлась, путь скрывая к двери,
Толстый куст той полыни у двери, и помнить меня,
Запрещавшего куст обрывать.
Для меня же
Глухо скрыто забвением место, где горький я запах впервые вкусил.
Так же часто срывал те седые листочки,
Запах слышал и думал, и фыркал опять и опять,
Силясь мыслить о том, что тогда вспоминалось,
Ничто не имело значенья, лишь памятна горечь была.
Ключ я к прошлому потерял. Тупо спрей обоняя,
Размышлял ни о чем; ничего я не вижу, не слышу;
Но мне кажется, будто смогу я услышать, лежа в ожидании
Тех вещей, что я должен вернуть из забвенья себе:
Не является сад, нет тропы, нет куста седовато-зеленой травы,
Что названия носит Влюбленность Мальчишки и Старичок,
Нет ни матери, нет и отца, нет товарища в играх:
Лишь аллея, темна, безымянна, и нет ей конца.
ЧАРЛЬЗ КЕННЕТ УИЛЬЯМС{53} (р. 1936)