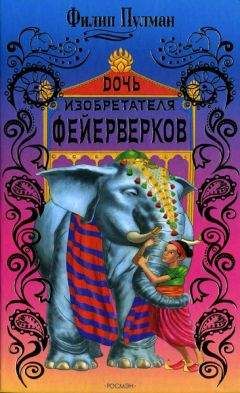1945
Вадим Сикорский
«Как я люблю людей родной России!..»
Как я люблю людей родной России!
Они тверды. Их вспять не повернешь!
Они своею кровью оросили
Те нивы, где сегодня всходит рожь.
Их не согнули никакие беды.
И славить вечно вся земля должна
Простых людей, которым за победы
Я б звезды перелил на ордена.
1945
Константин Симонов
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси…
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти поселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».
«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
1941
Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск, как летом на реке.
Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.
Там двое одноруких спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Отметили война и труд.
Там на груди своей широкой
Из дальных плаваний матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край занес.
Там я, волнуясь и ликуя,
Читал, забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.
Там слышен визг и хохот женский
За деревянною стеной.
Там рассуждают о футболе,
Там, с поднятою головой,
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги горновой.
Там всяческих удобств — немножко
И много всяческой воды.
Там не с довольства — а с картошки
Иным раздуло животы.
Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.
Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В райбане были вы иль нет?
Там два рубля любой билет.
1947
Тихо прожил я жизнь человечью,
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.
Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.
Для нее, ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.
Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей
так, как женщины возят детей.
Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.
Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.
Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным,
словно окиси привкус во рту.
Даже жесткие эти морщины,
что по лбу и по щекам прошли,
как отцовские руки у сына —
по наследству я взял у земли.
Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.
Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют…
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.
1945
Дорога та уже неповторима.
Примерно суток около семи
Отец да я — мы ехали из Крыма
С небритыми военными людьми.
В теплушке с нами ехали матросы,
Растягивая песню на версту,
Про девушку,
про пепельные косы,
Про гибель кочегара на посту.
На станциях мешочники галдели,
В вагоны с треском втискивали жен.
Ругались.
Умоляюще глядели.
Но поезд был и так перегружен.
Он, отходя, кричал одноголосо
И мчался вдаль на всех своих парах,
И кто-то падал прямо под колеса,
Окоченев на ржавых буферах.
Но как-то раз,
Когда стояли снова,
При свете станционного огня,
С пудовыми запасами съестного
Уселась тетка около меня.
Она неторопливо раскромсала
Ковригу хлеба ножиком своим.
Она жевала резаное сало
И никого не потчевала им.
А я сидел и ожидал сначала,
Что тетка скажет: мол,
Покушай, на!
Она ж меня совсем не замечала
И продолжала действовать одна.
Тогда матрос
Рванул ее поклажу
За хвост из сыромятного ремня,
Немое любопытство будоража,
В нутро мешка
нырнула пятерня.
И мне матрос вручил кусище сала,
Ковригу хлеба дал и пробасил:
— Держи, сынок,
чтоб вошь не так
кусала! —
И каблуком цигарку погасил.
Я по другим дорогам ездил много —
Уже заметно тронут сединой, —
Но иногда
проходит та дорога,
Как слышанная песня, предо мной!
И кажется, что вновь гремят колеса,
Что мчимся мы под пенье непогод.
И в правоте
товарища матроса
Я вижу девятьсот двадцатый год.
1938
Марк Соболь
Академик из Москвы
Над землею небо чистое,
путь не близок, не далек,
и трусил рысцой небыстрою
пожилой гнедой конек.
А вокруг поля зеленые,
птичий гомон, звон травы…
Ехал к нам в село районное
академик из Москвы.
Захмелев от ветра свежего,
тихо радуясь весне,
ехал гость в костюме бежевом,
в шляпе фетровой, в пенсне.
Эй, гнедой, стучи копытами!..
За рекой пойдут сады,
где на практике испытаны
академика труды.
Как в ладонь, сбирает лучики
ранним утром каждый лист…
Надо ж было, чтоб в попутчики
попросился гармонист.
Молча гостя поприветствовал,
сел в телегу, хмурит бровь…
Ах, какое это бедствие —
без взаимности любовь!
И гармонь выводит тоненько
про разлуку, про беду,
да к тому ж еще гармоника
с гармонистом не в ладу.
Часто пальцы ошибаются,
звук срывается шальной…
и сидит ученый, мается,
как от боли от зубной.
А вокруг — поля зеленые,
птичий гомон, звон травы…
Тронул за руку влюбленного
академик из Москвы.
Шляпу снял, пригладил волосы,
помолчал один момент
и сказал суровым голосом:
— Разрешите инструмент!
Быстро сдернул с переносицы
золоченое пенсне.
…Ах, какой мотив разносится
по округе, по весне,
над проселками и селами,
по угодьям и садам!
Пальцы быстрые, веселые,
так и пляшут по ладам.
Зреют в поле зерна тучные,
вдалеке скрипят воза,
и глядят на мир научные,
очень добрые глаза.
А гармонь выводит ласково
свой напев издалека.
…Было так: пошли подпасками
ребятишки батрака.
В кабалу белоголовые
уходили неспроста:
позади кусты репьевые
на погосте у креста.
Впереди — года… И вскорости
парень в бедах пообвык,
больше всех изведал горести
и назвался — большевик.
И уже поет гармоника
голосисто и светло
про буденновского конника:
«Хлопцы, сабли наголо!»
И опять услышать хочется
на привалах у дорог
тихий голос пулеметчицы,
украинский говорок.
Дым над степью, речку синюю —
все запомнила она —
дорогой профессор химии,
академика жена.
Как живой, остался в памяти
комиссар Иван Быстров,
научивший первой грамоте
будущих профессоров.
И, богатые победами,
чередой пошли года.
…Вот о чем они поведали,
белых клавиш три ряда.
Песня, песня!.. Над просторами
пролегли пути ее.
Глянь на все четыре стороны:
все родное, все твое!
И глазами восхищенными
оглядевши даль дорог,
улыбается ученому
тот влюбленный паренек.
А вокруг — поля зеленые,
птичий гомон, звон травы…
Ехал к нам в село районное
академик из Москвы.
1949