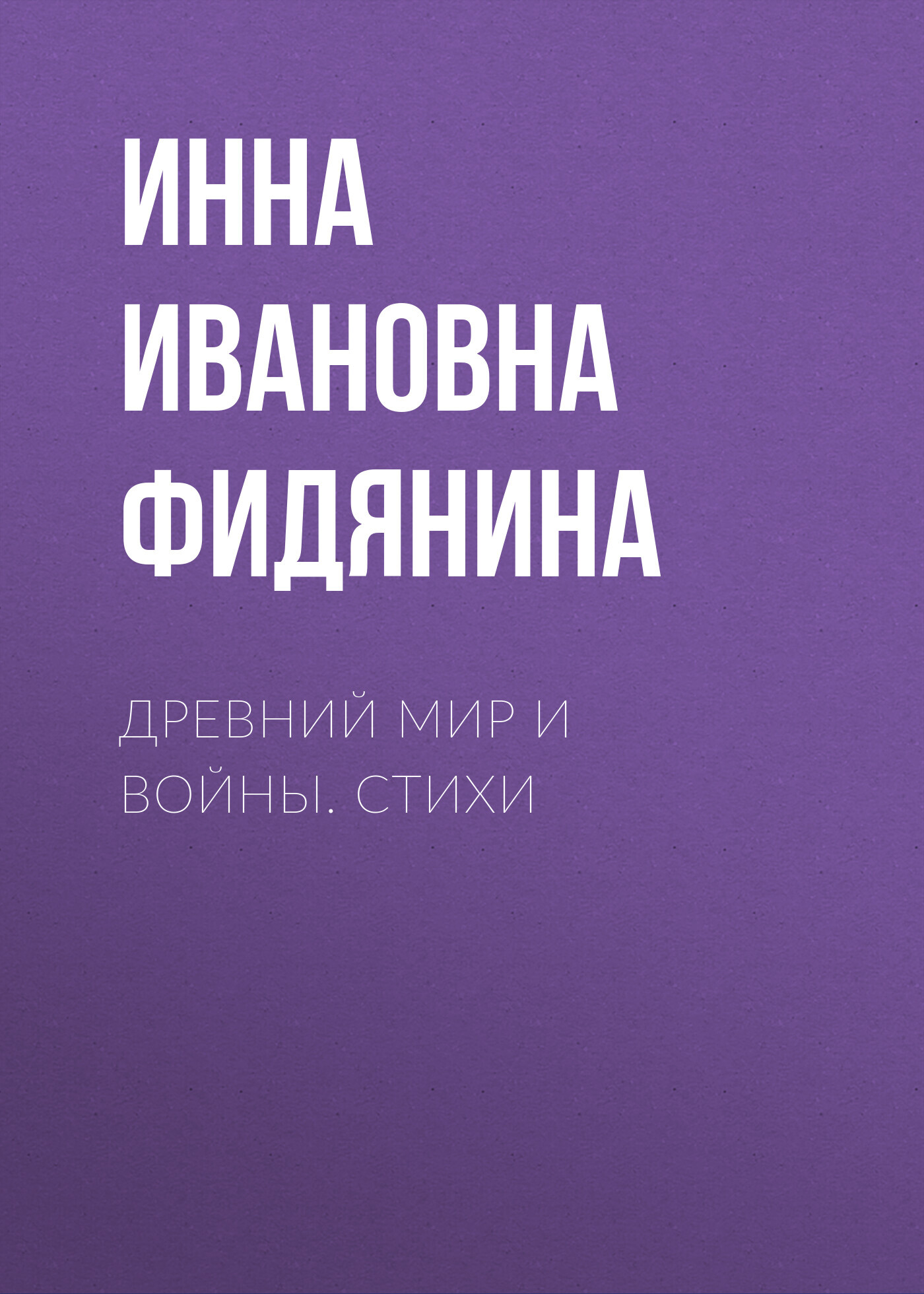class="p1">Вот так бегала я от позора
к позору совсем плохому —
нетрезвому, холостому.
Ты записывай, всё так и было:
мать меня не простила,
отец в свинарнике умер;
а как ветер на курицу дунул,
так и баба Нюра помёрла.
Собралась я, в деревню попёрла.
Приехала, села. Дома!
Завели мы с мамкой корову
и ещё долго жили:
много ели, водку не пили.
Нас на праздники звали,
но мы лишь руками махали.
Вы уж так как-нибудь веселитесь,
сами с собой деритесь!
А мы на лавочку и за семечки,
две непожившие девочки,
две молодящиеся старушки —
бездушные душечки душки.
Как я бегала от счастья до счастья
Напрямую ни от кого не зависело счастье.
Был бы суд-пересуд, а «участие»
у завистников быстро найдётся.
Кто в моём случае разберётся?
Всё хорошо у нас было:
дом, корова, свинья, кобыла,
и прозвище наше Силантьевы.
Фамилия? Да ладно вам!
Не обижал меня муж то,
жили мы дружно,
но не было у нас деток,
и мой Михалко забегал.
А бегал он по незамужним,
то бишь, дитё ему нужно.
Забрюхатили сразу трое.
Теперь суд. Как понять такое?
На суде все ручищами машут!
Тятьки вилы на Мишку тащат:
Кричат: «Порешаем на месте!»
Каждый дочь свою тянет в невесты.
Надумала я утопиться
иль самогоном залиться,
но плюнула, ждать решила — что будет,
с меня уже не убудет.
Вот такая история приключилась.
Недолго мы разводились.
У Михайло новая была свадьба,
алиментов на две усадьбы,
и пересудов лет эдак на тридцать:
позор скороспелым девицам!
А в деревне осталась я виноватой:
от того, что не ходила брюхатой.
И мне пришлось съехать,
в другое село уехать
под названием «строительство БАМа».
Там я была желанна.
Записалась я в коммунисты
и с листа нового чисто
жизнь свою начинаю.
Знаю, счастье где-нибудь повстречаю,
ведь оно ни от кого не зависит,
счастье с белого облачка виснет:
хватай, молода покуда!
А молва, суды, пересуды,
где бы ты ни была, догонят:
«Разведёнка, прям тут иль в вагоне?»
Как мы тётку Нюру крестили
А было всё на крещение
принимали мы омовение:
тётку Нюру
с толстющей фигурой
посадили на лёд,
а она ни назад, ни вперёд.
— Прыгай, Нюра!
— Не могу, не могу, фигура
застряла в сугробе!
— Эта дура всю прорубь угробит,
её надобно в бане попарить:
от лишнего веса избавить.
Вот сбросит она сто кило,
тогда её и на дно!
В баню Нюра, вроде бы, хочет,
сидит в сугробе, хохочет.
— Тащите её в помывочную,
пока волны нет приливочной
в нашей воде-океане!
— Волн в проруби не бывает,
там раки и щуки
от разной-всяческой скуки.
Но Нюрка вдруг испугалась,
с сугроба быстро поднялась.
А наши местны мужики
(тоже ведь не дураки)
как её в прорубь закинут!
Христа помянут и выпьют
литра три самогона:
— И что я такой влюблённый
в морозы крещенские?
— Да. Только бабы пошли дюже мелкие!
Я разочарована в любови деревенской
Интересные мужчины —
те, которые в кручине
не бывали никогда.
Я б за ними так пошла:
голая, раздетая,
колхозными заветами
вся, как кукла, скована.
Я разочарована
в любови деревенской.
Танец хочу венский
сплясать с поэтом злобным.
Хлопай, душа, хлопай
голодна пока что.
Хочу чтоб принц бумажный
писал мне… Не напишешь?
Слышишь ты, не слышишь?
Тётя Зоя и валенки
Тётя Зоя
ни с кем не спорит,
она сидит на завалинке,
латает зачем-то валенки,
но от латок её нет прока:
от первого снега потёкла
её прошлогодняя латка.
Ну и ладно.
А на улице вечер,
и полон скворечник
скворцами,
там деточки с мамой.
И лето!
Жаль, Зоя, ты не раздета.
Забрось свои валенки за забор,
может, припрётся Егор
на дармовщину:
спрячет свою личину
да и дитя «надует».
А оно нам надо? Задует
тётя Зоя сальную свечку,
проверит свои колечки.
И спать в одиночку завалится,
пущай хоть хата развалится,
ей Егора чужого не надо,
ему и его жинка рада.
А мы тоже слезем с завалинки,
подберём свои старые валенки
да пойдём по-взрослому целоваться.
Не век же нам женихаться?
О том, как дети бабам надоели
Дети бабам надоели:
пить хотели, спать. Поели
и давай опять орать.
Так орут, что не унять!
Что же делать, как же быть,
как о детях нам забыть?
И придумали чудилку,
саму страшную страшилку:
не рожать детей и вовсе,
а родив, так сразу бросить!
И пошло-поехало:
сто грехов нагрехали
и ещё немножко,
видала даже кошка!
Но недолго такое было,
Клавка с дедом согрешила,
родила — не отдаёт!
Собрались бабы на сход:
что же делать с Клавкой,
ножом её или булавкой?
Решили просто забить топором.
А Клавка прёт напролом,
забралась на сцену
и орёт: «Где смену
брать вы будете?
Сдохнете или скурвитесь!»
Говорила Клавка час,
а может, два. И сглаз
уходил потихоньку:
трезвели бабы, легонько
дитя того шлёпали.
И нравилось им, да хлопали
глазищами непонятными:
что за порча такая отвратная
на наши головы навалилась?
Бабы очухались и влюбились
в самого распоследнего старика!
Он еле живой. А я
к мужу приеду скоро:
— Ну здравствуй, самый милый
на всей планетище, Вова!
Бабы и тоска вселенская
Жили-были бабы. Так себе жили,
ни хорошо и ни плохо:
никого никогда не любили —
всё меньше мороки!
И в чёрную глядя вселенную,
ни о прошлом не плакали, ни о настоящем,
а думали: «Мы, наверное,
кинутые или пропащие.»
А звёзды такие печальные,
ни в конце пути, ни в начале
«друзей баб» никогда не видели:
девок бросили те иль обидели?
Бабы ж играли в игрушки:
перекладывали подушки
с пустого места на место.
— Чудесное слово «невеста!» —
вздыхали бабы и плакали,
да жизнь измеряли знаками
на своём нелёгком пути.
Надо идти, идти и идти!
Шли бабы долго,
прошли Енисей и Волгу,
вошли в Карибское море:
— Нет нам счастья, утонем!
Тонули они тоже долго:
растолстели бабы, без толку
свои пышные бёдра топили,
лишь веру в погибель убили.
Уселись на берегу, ждут
когда к ним друзья приплывут.
Но лишь глупо бакланы кричали,
да сирены на баб ворчали:
— Не ждите друзей, они с нами,
мы их к себе забрали!
Ох, как давно это было:
Ивана, Степана, Василя…
Тут список имён наполнил
огромное море. «Помним
(шептали бабы) Ивана,
Степана, Емелю, Полкана…
Помним, а ну отдайте,
мужиков обратно верстайте!»
И кинулись на сирен своим весом: