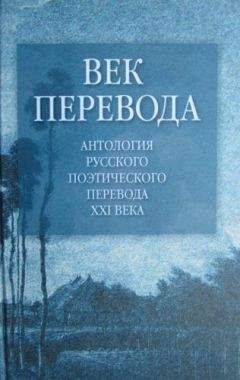К МОИМ ВЕТХИМ ПОРТКАМ
Ступайте прочь… Прощайте, — хоть
Вы знатно грели кровь и плоть
Мою, — прощайте… Мы, бедняги —
Певцы, маратели бумаги, —
Таскаем рвань, доколе вслед
Не засвистит шутник сосед,
Покуда с горем пополам
Заплаты сокрывают срам,
Покуда стужа сквозь прорехи
Не донимает без помехи.
Не так ли чахнущий больной
Не поспешает в мир иной
И бочками лекарства пьет —
Авось протянет лишний год?
Но как спасаться ни горазд,
А всё едино дуба даст.
Мне внятен ваш немой упрек;
Отлично помню, кто берег
И защищал мой бедный зад
В мороз и вьюгу, в дождь и град.
Увы! — неблагодарны барды,
И вылететь в окно мансарды
Моим порткам пришла пора:
Ни золота, ни серебра
Не вверишь столь худым карманам
В отрепье, столь безбожно драном.
А ежели в кармане грош
Иль вовсе на аркане вошь
(Поэты нищи искони) —
Терять последнее? Ни-ни!
Портки! таков уж белый свет, —
И вам ли горше всех? О нет:
Мы любим друга, если тот
Поит вином и в долг дает;
А деньги у него иссякли —
И вышел дружбе срок. Не так ли?
Но если человек не шваль,
Ему друзей злосчастных жаль, —
И мне вас жаль. Надевши вас,
Я подымался на Парнас!
Но мыслит Муза, что во вред
Нам изобилие монет, —
А мы без них угрюмы, злобны,
Понуры, неблагоутробны:
Коль скоро нет житейских благ,
То в каждом ближнем зрится враг.
Видали вы, как мой бокал
В руке недрогнувшей сверкал,
И лик мой счастлив был и свеж, —
И сколь светло мечталось прежь!
Мечты погибли — все подряд,
Как маргаритки в зимний хлад…
Эх, нет умелого портняжки,
А поврежденья ваши тяжки!
Вы долгие служили годы
И не внимали крику моды,
Но — времени vicissitude..
Вы одряхлели. Верю: худо
К последней близиться секунде.
Увы! Sic transit gloria mundi!
Спешите к некой лютой дуре,
Чей голос родствен реву бури, —
Вы подошли бы ей вполне,
Мужеподобнейшей жене!
Стыжусь открыто вас таскать я, —
Так скройтесь под подолом платья,
Чтоб ощутить объем и вес
Вельми упитанных телес!
А коль дождусь иных времен,
И окажусь обогащен,
И задеру нескромный нос,
Имея денег целый воз, —
Пусть мне предстанет призрак ваш!
И укрощу хвастливый раж,
И вспомню, по какой одежке
Протягивал когда-то ножки.
Так царь Филипп — я вспомнил ныне
Пределы царской клал гордыне,
Чтоб Македония нимало
От спеси царской не страдала:
Слугою состоял при нем
Гнуснейший смерд, развратный гном, —
И дротом этого слуги
Вправлялись царские мозги.
АЛЬФОНСУС ДЕ ГИМАРАЭНС (1870–1921)
В кольцо свилась чудовищной химерой
Дней тяжких бесконечная чреда —
Создатель наш! Зачем бездонной мерой
Созданиям отпущена беда?
Взойдет душа, сияющая верой,
По кручам неприступным без труда;
И над бедой, над пагубной пещерой,
Зажжется милосердия звезда.
А как же заблудившийся в тумане,
Забывший о любви, забывший даже
От зла к добру протянутую нить?..
Сомнение подобно вечной ране,
И повесть повторяется всё та же —
Всё та же мука: быть или не быть…
Когда я родился, заране проклят Роком,
Простерла надо мной Луна свои крыла.
И с той поры мой стих сочится горьким соком,
И дух мой с той поры окутывает мгла.
Средь бесконечных гор, в стремлении жестоком,
Почти обнажена, за мной богиня зла
Ступала, словно тень, и, темным глядя оком,
Не Авелем звала, но Каином звала.
Пред кем я виноват — пред Небом или Адом?
Но стражду без конца, отравлен жгучим ядом:
Стрела в груди — навек, и негде черпать сил.
И сирая душа томится в плоти сирой
(Как нищий властелин, простившийся с порфирой!)
И тает, как свеча, среди ночных светил.
О мир, о благодать! Пролейтесь, наконец,
Как чистый лунный свет, на грех, не знавший меры.
Дай веру, Господи, тому, кто просит веры
И молится Тебе, таинственный Творец!
Всем ведомо, насколь угодна Небесам
Заблудшая душа, что жаждет повиниться.
На всеусердный зов, всевластная десница,
Прострись и ниспошли целительный бальзам!
Прощает Божий взор и в то же время в прах
Испепелит, коль шел тропою ты неправой;
А праведный в Раю блажен и взыскан славой…
Кто вожделенный мир вкусит в иных мирах?
Ты ведаешь, насколь мечта моя дерзка:
С Тобою пребывать слиянно, а не розно.
О Господи, внемли. Я, грешный, слишком поздно
Пришел к Тебе, — но я пришел издалека!
О, смилуйся, Творец, прощенье уготовь.
Был дух мой одинок, а испытанья — многи…
Сушила горло пыль неправедной дороги,
Взор застила слеза, уста покрыла кровь.
Дай света Своего для истомленных глаз,
Источник веры дай — и утолю я жажду.
Прости мои грехи, прости в последний раз,
Спаси и сохрани, взирая, как я стражду!
В ком сердца нет, моей потешатся тоской,
Но добрая душа найдется в мире всё же.
О, если бы уйти от суеты людской —
Прощенья Твоего искать, Всевышний Боже!
И Божия лоза златой явила грозд,
И свод иных небес открылся мне, в котором
Спасение душе вещают нежным хором
И Твой Престол парит среди священных звезд…
А мирозданья суть возвышенно чиста;
Причастие в себе сокрыли все светила.
Дохнула благодать — и тучи расточила:
Кровавый виден знак священного Креста.
Святой Грааль Небес! Излейся, наконец,
На воды и на твердь, на грех, не знавший меры.
Дай веру, Господи, тому, кто просит веры
И молится Тебе, таинственный Творец!
МАНУЭЛЬ ХУСТО ДЕ РУБАЛЬКАВА (1769–1805)
Я стар, моя сударыня! Я стар,
Я стражу от подагры и запоров;
Вы правы, у меня сварливый норов,
Но я пустых не затеваю свар.
На склоне лет вы получили в дар
Вставную челюсть — худший из уборов;
Смирился я и с этим без укоров,
Хоть в дрожь меня бросает, а не в жар.
Но черт бы вас побрал! — уж не по силам
Глядеть, как вы любого сопляка
Желанным почитаете и милым.
А тот прилежно любит вас, пока
Вы, ставшая почти Мафусаилом,
Близ моего живете кошелька!
Глаза бесперерывно плачут гноем,
На черепе — клок покупных волос,
Заглядывает в пасть обвислый нос,
Слюна течет, подобная помоям;
И смрадный дух, знакомый свинобоям,
Окрестных мух влечет на сей отброс
(Могильщик бы давно его унес,
Да мертвецы зайдутся гневным воем).
Скелет, влачащий четки да костыль,
Иль вурдалак, а если вам угодней,
То василиск, иль оборотень, иль
Сам дьявол, прямиком из преисподней…
Перекрести — рассыпался бы в пыль,
Когда б не звался старой мерзкой сводней.
ХУЛИАН ДЕЛЬ КАСАЛЬ (1863–1893)
Госпоже Аврелии Кастильо де Гонсалес
Библейское предание I
Светило завершало дневный ход,
Светило угасало в блеске алом;
И над пустыней сумеречных вод
Был опрокинут бледный небосвод
Огромным алавастровым фиалом.
И веял на простор морских зыбей
Тончайший аромат лесов зеленых,
Которые росли близ волн соленых;
И трепетные стаи голубей
Скрывались на ночлег в масличных кронах.
И шепот густолистых сикомор
Струился, лепету оливы вторя;
Плескали крылья; и в вечерний хор
Мычание влилось: к отрогам гор
Стада от Мертвого влачились моря.
Стада шагали, опустив глаза,
Стада стремились прочь от горькой глади;
И наступало время петь цикаде…
И зрела благодатная лоза
Пространных виноградников Энгади.
Последний луч простерся над водой…
Ведомые угрюмым бедуином,
Верблюды шли несчетной чередой;
И тяжки были их горбатым спинам
Тюки с алоэ, миррой, розмарином.
И тьмою твердь укрыли облака,
И стало море Мертвое незримо;
А бедуины путь держали мимо,
И ни един не видел старика,
Ступавшего по склонам Аварима…
Провозгласивший некогда закон
Великому народу иудеев,
Отдохновения возжаждал он;
И двинулся, исполнив и содеяв,
Всевышнему вознесть последний стон.
И были травы горные колючи,
И восходил пророк, и был он бос.
И на вершине каменистой кручи
Он, устремляя взор в ночные тучи,
Последнюю молитву произнес.
II
«Сто двадцать весен и сто двадцать зим
Испепелили немощное тело;
И дух мой угасает купно с ним,
Но вера и досель не оскудела.
Да, правил я Тобой сужденный путь,
Но кончена стезя моя земная;
Трудился я, не смея отдохнуть,
Ни страха, ни отчаянья не зная;
Я, зривший пламень Твоего столпа,
Усердствовал в служенье неустанном;
Но тернии растит моя тропа,
И небеса поволоклись туманом;
Меня забыли в племени моем,
И поприща былого не осталось;
И по земле отныне мы вдвоем
Влечемся: я — и горькая усталость;
И я взываю: Господи! укрой
Благословенною могильной тенью
Того, кто жаждет мира, как герой,
Отдавший силы славному сраженью.
Ужели нужен я людскому роду,
Коль убывает утомленный слух,
И зренье иссякает год от году,
И черною тоской охвачен дух?
Да! время, хоть оно разит нескоро,
Браздами прочертило мне чело,
И унесло былую ясность взора,
И светлые виденья унесло;
И холодны, как лед, мои седины,
И мой хребет сгибается в дугу…
Ты внемлешь эти вздохи? Ни единый
Я без усилья сделать не могу.
О, смилуйся над немощным рабом,
Который искони Тебе был верен,
А нынче в Твой обетованный дом
Скребется, схожий с изнуренным зверем!
III
Он застенал, как позабытый пес,
Потом умолк… Недвижный, как утес,
Остался Моисей на горной тверди,
И ждал, дабы явился Ангел Смерти
И душу возрыдавшую унес.
И выслал Бог сурового гонца…
Но тот витал, приблизиться не смея,
И старого не тронул мудреца,
Зане объял седины Моисея
Горящий нимб тернового венца!
И не был явлен вожделенный знак
И понял старец, что вотще и втуне
Мольбы летели в запредельный мрак,
Подобно волнам, вздыбленным в буруне…
И выпрямился он, и молвил так.
IV
«Я кротостью покоя не обрел…
Смиренье ныне уступает гневу!
Светилам внятен жалобный глагол,
И зверю, и несмысленному древу, —
Но не Тебе, Всевидящий Творец,
Презревший муку племени людского,
Не милующий плачущих сердец,
Не внемлющий отчаянного слова,
Не ставивший вовек препоны злу,
Не даровавший праведным награды…
Услышь! Я в небо возношу хулу,
Когда молитве небеса не рады!
Услышь! Тебе глаголет жалкий прах!
Пророком бывший, ныне ставший тленом,
Тебе во славу, сатане во страх
Я ратовал с усердьем неизменным.
Зачем не умеряешь эту боль,
Зачем не утоляешь эту жажду?
Зачем — ответствуй, Боже! — и доколь
Влачить страданье, коим ныне стражду?
Зачем Ты сокрушал мои мечты?
Зачем дарил и тотчас отнимал их?
Зачем, Господь немилосердный, Ты
Великим сотворил меня средь малых?
О сеятель, забывший о посеве!
О Ты, поправший собственный закон, —
Я гневаюсь! И, говоря во гневе,
Сулю Тебе неслыханный урон!
Освобожденный от былого плена,
Пылает факел моего ума!
И круг земной, забав Твоих арена
И рода человечьего тюрьма,
Назавтра обратится битвы полем!
О, я взбунтую злополучный род,
И, вопреки томлениям и болям,
Оковы Божьи смертный разорвет.
Там, где согласно шелестят леса,
Восставлено Тобою древо было:
Его питала светлая роса
И согревало ясное светило;
Оно росло, оно стремилось вверх,
Оно укрыло травы доброй сенью…
Ты Сам его растил — и Сам поверг,
Ты, недоступный страху и сомненью!
Растил и я Господней славы ствол
И пестовал его в миру, в котором
Повергну это средоточье зол
Перед смятенным человечьим взором».
V
И внял Господь сей дерзновенный глас,
Подобный реву буйного потока,
И гневом возгорелось Божье око,
И гром твердыню горную сотряс,
И молния ударила в пророка.
И умер порицавший Судию…
А Бог сошел во славе и печали,
И хладный прах воспринял в пясть Свою,
И схоронил в неведомом краю,
Где никогда молитвы не звучали.