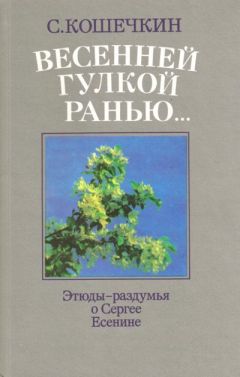Ветреный ветер
Говорить как листья языком зеленым,
подражая птице, а не книжке квелой,
обучает ветер, старикан веселый,
прозванный в деревне доном Ветрогоном.
Он и впрямь, пожалуй, сумасбродит слишком:
бродит в мокрых травах на рассвете, словно
в луговине ищет колдовское слово,
в ельнике бормочет заклинанья шишкам.
Он и впрямь, пожалуй, поступает странно:
свищет у колодца и гремит по ведрам,
а потом читает проповеди ветлам,
заставляя листья распевать осанны.
Но когда запахнет тучей с небосклона,
он тревожной веткой барабанит в крышу,
и кричат крестьяне, этот стук заслыша:
«Люди! Привечайте дона Ветрогона!»
Белый передник напялил декабрь
и принимается наскоро стряпать.
В окнах развел негасимый огонь,
сыплет мукой
на тягучую слякоть.
Щедро кладет ледяной виноград
прямо в стеклянные лужи-подносы
и веселящуюся детвору
праздником, словно сластями,
обносит.
Пар изо рта — будто пар над плитой.
Иней на камне — как соли щепотка.
Жесть водостока под градом шипит,
словно на сильном огне сковородка.
Вечные птицы вписаны в вечер
вестью крылатой.
Уксусом жжет пересохшие губы
губка заката.
Я на кресте тишины ненавистной
висну, распятый.
Дым от костра… И я вижу сквозь пламя:
лик материнский заплакан…
С памятью в карты режется память,
память поставлена на кон.
Твое тело вылеплено из фруктов,
ты персиками пахнешь ночью.
Твой поцелуй проходит через губы к сердцу,
как струя воды, когда чист источник.
Как под дуновеньем ветра клевер на поле,
под лаской твоей дрожит моя кожа.
Ты вся как фруктовая ваза,
она у губ моих с берегом схожа.
Когда бьет шесть часов, даже свет веселеет.
Языками огня он приходит в квартиры,
возвещает он людям явленье господне
в цветении супа и в молчании мира.
Закрывают окна, открывают буфеты,
опрокидывают на скатерть с хлебом корзинку,
и дети, усевшись за стол домашний,
видят кресло отца и крылья на спинке.
Суповая миска служит паром обедню,
ложка будущий сон разливает детям;
и как искренне дети сравнивают с луною
те пол-апельсина, что дают им на третье.
Когда бьет шесть часов, между рамами в окнах
чье-то сердце сияет розовым светом.
Бьет крылами молчанье вкруг свечей неподвижных,
и вещает господь в глубине буфетов.
Тетя Исолина, яблочный румянец.
Тетя Исолина, стройная, как ель,
моет пол на кухне, и сверкает глянец,
словно хлынул в окна водолей-апрель.
Тетя Исолина, сахарные руки.
Тетя Исолина, сладкий говорок.
Тетя Исолина вся в муке и луке —
значит, нынче будет праздничный пирог.
Нету феи лучше тети Исолины.
Тетушка с рассвета в кухне ворожит:
мастерит компоты или сушит дыни
и слезой похлебку тайно солонит.
Полный таз варенья, молоко в бидоне…
Тетя Исолина, фея детворы.
Помню, как сегодня: теплые ладони,
пахнущие дыней, гладят нам вихры.
В обтянутом кожей сундуке,
под стражей нафталина,
две распашонки брата.
Проеденная крысой древесина.
Фамильное зеркало,
озирающееся лунатическим взглядом.
Мамин бант.
Карты, мудрые, как фолиант,
лоснящиеся сальным лоском.
Рядышком —
яблоко, вылепленное из воска
руками полуслепой прабабушки.
Затхлым запахом стал сундук,
а этот запах — бродячий дух.
Под вечер сгорбленные тени
выскальзывают из зеркала,
рассыпая по комнате дробный топот.
А потом
падают на колени, когда за окном
пастушья звезда осеняет тополь.
На стеклянной странице, в переплете оконном,
причастился росою влажный лист краснотала,
и причудилась вечность вечереющим копнам,
и причудлив кустарник, словно ветка коралла.
Загустела округа, как смола на распиле,
над колодцем заплакал по-младенчески ворот…
Может, за поворотом той тропинки Вергилий
повстречался сегодня с улыбкой Тагора.
Как обряд очищенья я закат принимаю
и щемящую нежность пью из чаши оконной,
где на исповедь вышла луговина немая
и задумалась ива над загадкой зеленой.
Звон колокольный льется над полем,
плачет вечерня неутешимо.
Набожный ужин, млея на блюде,
перекрестился струйками дыма.
Ангельский голубь тихой округи,
крылья сложивши, сел на камине.
Красное солнце на горизонте —
словно румяный плод на витрине.
Красное солнце в перьях заката
плавно меняет цвет оперенья.
Чую всей кожей, завороженный,
розовых крыльев прикосновенье.
Как же случилось, что не согреться
мне у камина милого сердца?
В окнах и в поле стынет свеченье.
Неутешимо плачет вечерня.
Как дверца узенькая, зеркало
ведет в загадочность кристалла:
за светом ледяным немеркнущим
внимательные ждут сигнала.
Посланье из другой вселенной
в глуби зеркальной открывается,
блеснет кометою мгновенной,
и глаз, ослепнув, сомневается.
Брильянтами сияет черными,
купаясь в свете неизвестном,
сигнал живущих по ту сторону
от нашей жизни в мире тесном.
И ловит неводом лучистым
фигуры, символы и линии
то зеркало со светом чистым,
хранилище предметов синее.
Глаз караулит, глаз впивается,
за перспективой ждет движения,
но в цвет дневной он упирается
лишь — в ироничном отраженье.
И слух охотничьею сукой
подстерегает дичь украдкою,
но ловит только призрак звука,
скрепленный, как пером, догадкою.
Душа, расстанься с оболочкою,
и глубь зеркальную мгновенно
прочертит лопнувшею почкою
послание другой вселенной.
Маятник — времени каменотес,
даром что маленький.
Ночью врубается в черный утес
труженик-маятник.
Тянет лаванда с комодного дна
ноту знакомую.
Нервно косясь на часы, тишина
бродит по комнате.
Сном деревянным ступени сморило.
Лестнице снятся прямые перила.
Перебирает ночь половицы,
словно случайной книги страницы.
Тихо крадутся поздние гости:
краплёные карты, фальшивые кости.
Мечутся тени в мертвенном свете.
Эти пролеты мечены смертью.
Брошены кости. И воровато
масляным взглядом смотрит лампада.
Вдруг заскрипела лестница жалко
скрипом полуночного катафалка.
Стонут ступени, корчась под игом
тьмы, начиненной бранью и криком.