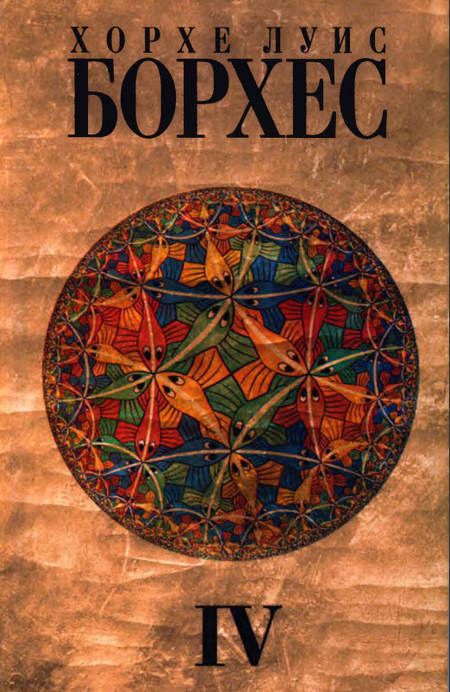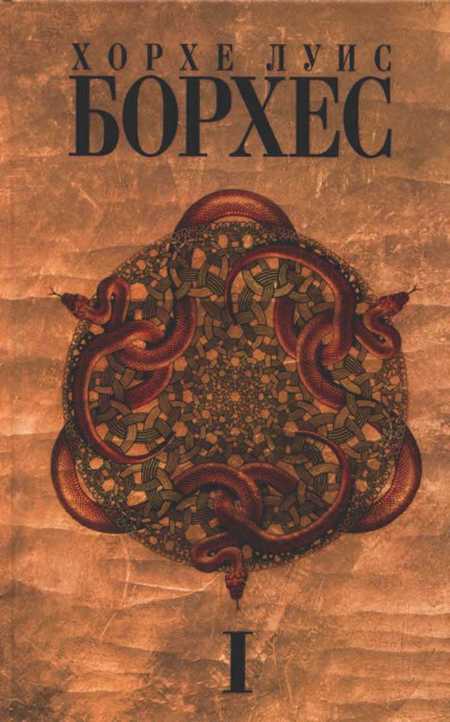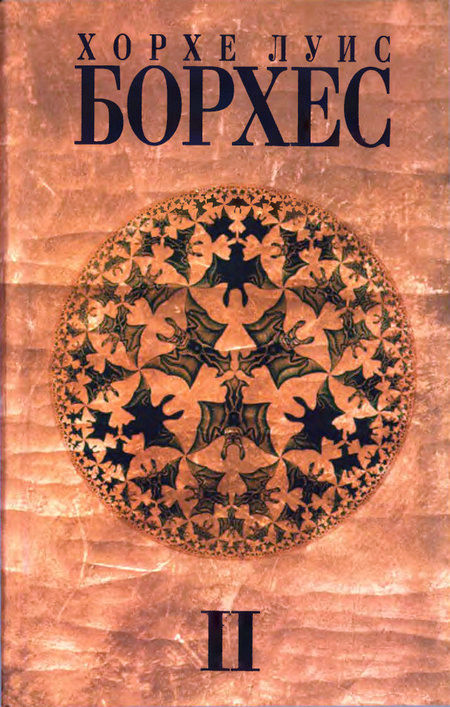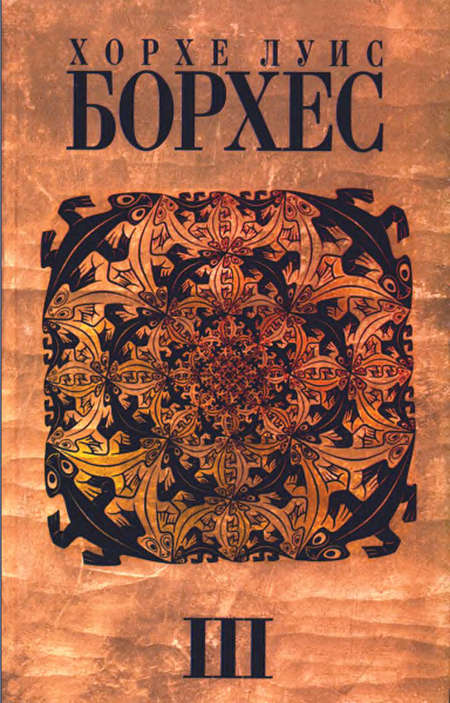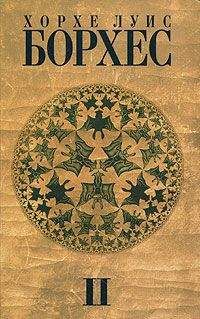рассказ об учителях буддизма, поддерживающих огонь в монастырском очаге статуэтками святых и отдающих профанам канонические книги, поскольку «буква убивает, а дух животворит»). Речь идет о преодолении «литературы» с ее канонами и святыми, а парадокс ситуации заключается именно в том, что этот подрыв рекомендует и демонстрирует теперь живой литературный классик. И это один смысловой разворот темы
устного.
Есть и другой. Когда Борхес публикует потом свои «разговоры», он делает по смыслу то же самое, что и в своих выступлениях — бесконечно повторяясь, «заводя» их как своего рода пластинки (он и сам их так называл). В духе известной микроновеллы «Борхес и я» он — на этот раз специально — провоцирует, разыгрывает отстранение от собственных текстов, которые теперь уже, процитирую, «принадлежат Борхесу, а мне нужно опять придумывать что-то новое» (впрочем, каждому, кто слышал свой голос в магнитофонной записи или читал текст, где записано только что им сказанное, этот феномен самоотчуждения вполне знаком). Отделяя и отдавая устойчивое, повторяющееся, общезначимое до полной неотличимости, до анонимности своего слова растворяясь в других, он по мере сил делается «всем для всех», вместе с тем драматически оставаясь — или становясь? — «увы, Борхесом». И кроме того, как бы репетирует будущее, внеавторское существование и действие своих слов, которые если и говорят, если и сохраняют, приумножают жизнь, то лишь в той мере, в какой несут и приращивают смысл, в какой рождают понимание, а не в силу того, что их произнес Борхес.
Дар утраты
Вручение себя другому — еще один мотив, все отчетливей звучащий у позднего Борхеса. Он почти что кристаллизуется у него в особый микрожанр — посвящение (не путать с предисловием!). Такими посвятительными надписями открываются книги «История ночи», «Тайнопись», «Порука». Легко видеть, что их адресат — вполне конкретный человек, молодая спутница последних лет Борхеса Мария Кодама. Но, как обычно в лирике, эти посвятительные слова обращены не только к возлюбленной, но и к Музе (Altra Ego, по выражению Бродского [3]), в которой сходятся жизнь и речь поэта. «Из всего множества необъяснимых вещей, составляющих мир, — предостерегающе замечает Борхес, и эти его слова нужно расслышать, — посвящение книги — не самая простая».
Разберемся, как он строит такие посвящения. Перед нами коронные борхесовские перечни случайных и вместе с тем сверхзначимых «вещей» — имен людей, предметов, мест. В принципе, их список бесконечен, равно как бесконечен и каждый из включенных в него символов (именно поскольку он символ, то есть мета соединения, знак перехода, веха смыслового подъема). Но здесь перечень, его символическая игра, восхождение от символа к символу, как в обряде инициации, завершается или открывается образцовым символом, можно сказать, символом символов — именем собственным. Уводящее в бесконечность по принципу «и т. д.» ритуальное перечисление приводит к другой бесконечности, бесконечности другого смысла и уровня, бесконечности Другого [4].
Одна бесконечность здесь — это бесконечность вбирания в себя, способности быть всем; таково зеркало в «Элегии о саде» («…мы и есть грядущее былое»), таково облако в «Облаках»: «В малейшем облаке — весь мир со всею// бездонностью» или «Ты — облако, и море, и забвенье,// и все, что за чертой исчезновенья», — то есть даже и твое неведомое тебе запредельное для тебя будущее. Это «бесконечность все-» — всеохватывающего, всемогущества и т. д. Другая (про нее немало сказано в «Девяти очерках о Данте», особенно в двух заключительных, где она носит собственное имя Беатриче) — бесконечность самодостаточности, манящей и недостижимой неприступности, откуда наша «таинственная любовь ко всему,// существующему без нас и помимо друг друга» [5]. Это «бесконечность само-» — самосущего, самосозерцания и т. п. В любом случае бесконечность, как уже говорилось, — не вещь. Но, может быть, она даже и не содержание, не смысл символа. Скорее, это принцип движения мысли, творящее ее начало.
Так борхесовские посвящения ведут его и нас от «я» к «ты» («Я — это Ты», по известному афоризму Новалиса). Другое освящается именем другого, отдается под охраняющий знак этого имени, поскольку другому и принадлежит. Оно — как твое — и не существовало бы без него, тебе оно было только подарено, а значит, твой дар — ответный, возвратный: «Отдать можно только то, что принадлежит другому». Или словами другого поэта: «Оказывается, что ни полслова // Не написали о себе самих…» [6]
Понятно, такое понимание мотивировано у позднего Борхеса чувством близкого ухода или (одно здесь входит в другое и обозначает его) немыслимого разрыва во времени с юной спутницей, которой предназначена даримая им книга, ее «игра символов». Конечно же, но не только. У борхесовских посвящений есть более общий смысл (и обостренное чувство своего конца — одно из условий подобного смысла): они — из разряда таких «вещей», как дар, обет, жертва, молитва, прощение, благодарность, любовь… В этих особых — поскольку, вероятно, основополагающих и простейших — формах человек решается шагнуть за пределы одиночества и утвердить обращенность к другому в качестве исходного факта жизни, мысли, творчества дорастает до сознания взаимности как первоматерии осмысленного существования. Подобным сознанием продиктованы, по-моему, оба главных и итоговых замысла Борхеса, венчающих его жизнь, — книга путешествий «Атлас» и книга предисловий «Личная библиотека». Каждая из них многократно и по-своему неисчерпаема.
Путешествия в невидимое
Показательна для книги «Атлас» словесная стратегия миниатюры «Стамбул» [7]. Каждый смысловой поворот нескольких ее строк как бы уничтожает только что сказанное, выводя его в новую и новую смысловую перспективу. Судите сами. Полстраницы текста открываются замечанием, что все известное нам о Карфагене (отсылка к флоберовской «Саламбо») мы знаем только со слов его врагов, а они безжалостны, — нечто подобное произошло и с Турцией. «Что я мог узнать о Турции за три дня?» — спрашивает затем автор-рассказчик. Он видел то, что было скрыто от слепого (на странице слева — любительская фотография залитого светом старика на фоне Айя-Софии: это снятый Марией Кодамой Борхес открытыми и невидящими глазами смотрит, как можно понять, прямо на солнце), он слышал ушами европейца «сладчайший» язык, которого не понимал. При этом ему припоминались глубины истории Запада и собственные «северные истоки»: не находящие пристанища, бесследно прошедшие по миру скандинавы и бежавшие из Англии после поражения при Хастингсе саксы, составившие гвардию византийского императора. Начало и конец смыкаются. Итог: «Бесспорно одно. Мы должны вернуться в Турцию, чтобы начать ее открывать». Кто-то может сказать, что вместе с поводырем ничего не увидел и не услышал, но никто не скажет, что это путешествие было бесплодным, а рассказ о нем бессодержательным. Бесспорно одно: оно не было туристическим (не зря Борхес предупреждает, что его книга — «не атлас») [8].
Так что здесь, как и в случае с «устным Борхесом», перед