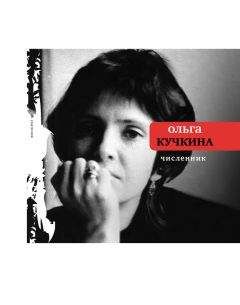«Я одинокая ковбойка…»
Я одинокая ковбойка,
я любопытная сорочка,
я коллективная футболка,
короче, я рубаха-девка,
ношусь волшебно и стираюсь.
А если вдруг росой холодной,
лучом звезды, дорожкой лунной
меня испачкает случайно —
своя рубашка ближе к Телу, —
я сохранить пятно стараюсь.
«Быстрый взмах карандаша…»
Быстрый взмах карандаша,
как полет летучей мыши,
перечеркивает мысли,
перечеркана душа.
Ранний вечер под луной,
ходит девочка с собакой,
объясняется, однако,
по-английски не со мной.
Пес стеснительно сопит,
горло стиснуто тисками,
меж желудком и висками
боль любовная стоит.
«А еще как будто лихорадкой…»
А еще как будто лихорадкой
бьет примерка страстная костюмов,
платьев, туфель, шляп, браслетов, сумок,
воздуха чужого кражей сладкой.
Вещь в себе и на себе вещица
веществом заветного творенья,
ритмы, рифмы, мифы, повторенья
с блеском предлагает продавщица,
тайные квартирки отпирает,
зеркалами ловит отраженье,
на плите кипит воображенье
и мороз по коже подирает.
Модное лицо сменяет образ,
образок серебряный старинный,
оплывают свечи стеарином,
умирает восхищенья возглас.
Философский камешек в браслете
выпадает на пол из картинки.
Ленты, шляпы, кружева, ботинки
обморочно виснут на скелете.
«Позвонила судьба и на ломаном русском…»
Позвонила судьба и на ломаном русском
сообщила: вам выпал ваш обратный билет.
И толкнулось шестым окончательным чувством,
что отъезд неминуем и выхода нет.
На листе ожиданья еще значилось время,
еще значил остаток пребыванья в любви,
на листе убыванья уже значилось бремя,
и закушен до крови рот, родной по крови.
Вот наши новости: кобыла сдохла,
лихие рысаки промчались мимо,
привычка с Вами близко жить иссохла,
как и любить, и Вами быть любимой.
Последний Ваш заезд почти напрасен,
ездок не в форме, публика скучает,
хоть был когда-то жар сердец прекрасен,
все ставки сделаны, а выигрыш случаен.
Рак, свистнув на горе, с горы свалился,
переменил на красный цвет зеленый,
он у подножья в кипятке сварился,
а прежде был живой и изумленный.
Прощайте же.
Что за потеха – иносказательные речи
и шутки там, где не до смеха,
где каждый вечер, каждый ве…
Письмо на этом обрывалось.
Все, что читало, обрыдалось.
«А она гуляла пешком одна…»
А она
гуляла пешком одна,
в то время, как остальные
гуляли в автомобилях,
и это была не ее страна.
Она,
а не они,
подавляя чувство вечной вины,
одна ходила пешком,
согреваясь в тепле чужом
и вспоминая сны.
Она
думала, что молода,
и думала, что хороша,
а была немолода и нехороша
и не имела за душой ни гроша.
Она
вернется в свою страну
и улыбнется тому одному,
кто думал, что она молода
и не перенесть без нее холода,
вот беда.
Клавесин и старинные кресла,
бабки-фермерши дар и наследство,
и воскресная месса воскресла
для друзей, чье любезно соседство.
Под часами и в креслах старинных
тянем чай из фаянсовых чашек
и след клавшиных па клавесинных
в пальцах Кэрол с изяществом пляшет.
Мы танцуем безмолвные танцы,
Merry Christmas поем по-английски,
мы на празднике здесь иностранцы,
только с Кэрол Айспергер мы близки.
Домом к дому, где слезы пролиты,
дымом к дыму в отечествах разных,
океанами окна промыты,
клавесина звучанье не праздно.
Я уеду, уеду, уеду,
я исчезну в российских просторах
и оставлю записку соседу,
чтобы мокрым держал в доме порох.
Я провела там месяц,
я привыкала к листьям,
сухо шуршавшим вместе
с тем, что относится к мыслям.
Я привыкала к белкам,
рыжим на фоне рыжем,
птицы ступали мелко,
небо делалось ближе.
Я привыкала к книгам
лучшей библиотеки,
пульс возбужденно прыгал,
рядом жарились стейки,
рядом дымился кофе
с лучшими из пирожных.
Мыслям было неплохо,
с чувствами было сложно.
Поднаторевшие Парки
нити, как прежде, пряли,
я привыкала к пряже,
а они ко мне привыкали.
Девочка там проживала…
В ночь моего отъезда
вдруг в телефон прожевала
что-то. Уже бесполезное.
И сомкнулись воды
над уезжавшей
и сошлись берега
и упал на дно
кусок отъезда
как кусок небытия
как падают на дно и исчезают
все куски инобытия
после того
когда возвращаешься
Аравийская пустыня,
дышит солью океан,
бел песок и небо сине,
чужестранец из России
открывает чемодан.
Открывает Эмираты,
как экзотики парад,
Эмираты гостю рады,
ну а он уж как им рад.
Посреди судьбы и дела,
позади дождей слепых,
открывает город белый,
город праздничный, как стих.
Из песка, стекла и ветра,
солнцем яростным палим,
возникает в ливнях света,
как застывший пилигрим.
Вдоль Персидского залива
нежно шинами шуршат
шейхи, принцы, бедуины,
в двадцать первый век спешат.
Вышел месяц мусульманский
над отелем Coral Beach —
извлекаются из странствий
красота и пышный кич.
Точит звезды и кораллы
океанская вода
и волшебные хоралы
растворяет без следа.
Аравийская пустыня
плюс Индийский океан —
иностранец из России
дышит жаркою полынью,
дышит водорослей синью,
без вина смертельно пьян.
Натуральная Азия,
горячая Африка,
изысканная Европа,
безвкусная Америка,
вкусная Россия.
Старухи, старухи стоят на ветру,
на свадьбу позвали старух поутру,
вот сядут в троллейбус, поедут туда,
где не были прежде они никогда.
Кладбище и рынок, бульвар и роддом,
былое припомнить умеют с трудом,
на щечках румяна, и пудра, и блеск,
насмешка и грубой гримасы гротеск.
Старухи, старухи стояли рядком,
троллейбус старух возвращал вечерком,
отыграны свадьбы по талой воде,
и больше старух не видали нигде.
В мансарде с оконцем в звезды,
с потолком конструктивной моды,
висел Модильяни поздний
над кроватью в плоскости оды.
Торжественно глаз открывала,
голубела шея голубиная,
тонкою рукой из-под одеяла
трогала Модильяниеву линию,
трогала воздух и воздух,
вбирала весь объем воздушный,
было не рано и не поздно,
живопись трогала душу.
Плоскость нависала над ложем,
узкая змеилась трещина.
В зеркало правдивое и ложное
смотрелась Модильяниева женщина.
Шагал Шагал себе над городом,
а ты, лежащая в постели,
глядела счастливо и гордо,
как с ним над городом летели,
в руке перо, в душе отвага,
густело небо пред рассветом,
и грубо морщилась бумага,
перенасыщенная цветом.
Янтарь желтеет на асфальте,
темнеют сферы площадей,
октябрь в Москве, октябрь в Фиальте,
сезон падения дождей.
Что сердце жгло, в висок стучало —
припомним это ремесло, —
законом времени умчало
и пылью ветром разнесло.
Невозвратимая Россия,
в неверных сменах октябрей,
ты под нормальную косила
вся, от холопов до царей.
И чахли те, кто уезжали,
и гибли, кто не уезжал,
скрипели ржавые скрижали,
башмак эпохи сильно жал.
Один Набоков, странный гений,
вдали отчизны не зачах,
пред ней вставая на колени
во снах ночных, а не в речах.
За бабочками и словами
охотник страстный, прочих клял,
о, отвяжись, я умоляю,
он образ милый умолял.
Летят прозрачные машины,
янтарный лист примят стеклом,
блестят зонты, носы и спины
у прошлой жизни за углом.
Прощай, немыслимый Набоков,
природный баловень себя,
певец порогов и пороков,
надменный счетчик бытия.
Как прошлогодний снег в Фиальте,
заплаканный апрель в Москве,
так фиолетов цвет фиалки,
в пыли взошедшей по весне.
Из дыма и света
и канатов прочнее стали
состоит любовь —
во сне мне прошептали.
Мне приснилось это,
пока все еще спали,
и кто-то ударил
меня в глаз, а не в бровь.
С зажмуренным глазом,
ожидая рассвета,
цепляла на крючки это
соединение слов:
из дыма и света,
из дыма и света…
Что из дыма и света?
Из дыма и света —
это и весь улов.
«Пение в доме, где нету рояля…»
Пение в доме, где нету рояля,
солнечных пятен и смеха дрожанье,
лица, как будто со старой эмали,
и всех троих меж собой обожанье.
Где оно? Вот оно, только что было,
минет неделя, другая, полгода…
я запишу, пока не позабыла,
всякая может случиться погода.
Снегом засыплет, верст намотает,
сменится век веком в дерзком начале.
Многое в дымке, конечно, истает.
Но эти лица со старой эмали…