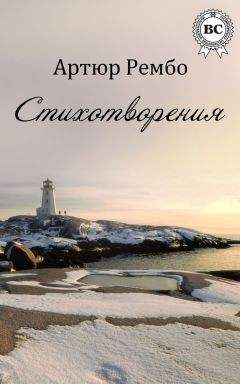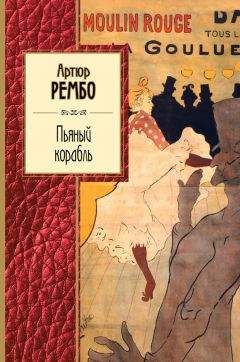Если бы он объяснил мне свои печали, разве я поняла бы их лучше, чем его насмешку? Напав на меня, он часами со мной говорит, стыдя за все, что могло меня трогать в мире, и раздражается, если я плачу.
«Посмотри: вот элегантный молодой человек, он входит в красивый и тихий дом. Человека зовут Дювалем, Дюфуром, Арманом, Морисом, откуда мне знать? Его любила женщина, этого злого кретина: она умерла и наверняка теперь ангел небесный. Из-за тебя я умру, как из-за него умерла та женщина. Такова наша участь – тех, у кого слишком доброе сердце…» Увы! Были дни, когда любой человек действия казался ему игрушкой гротескного бреда, и тогда он долго смеялся чудовищным смехом. – Затем начинал вести себя снова, как юная мать, как любящая сестра. Мы были бы спасены, не будь он таким диким. Но и нежность его – смертельна. Покорно иду я за ним. – О, я безумна!
Быть может, однажды он исчезнет, и это исчезновение будет похоже на чудо. Но я должна знать, дано ли ему подняться на небо, должны взглянуть на успение моего маленького друга».
До чего же нелепая пара!
V. Бред II
Алхимия слова
О себе. История одного из моих безумств.
С давних пор я хвалился тем, что владею всеми пейзажами, которые только можно представить, и находил смехотворными все знаменитости живописи и современной поэзии.
Я любил идиотские изображения, намалеванные над дверьми; декорации и занавесы бродячих комедиантов; вывески и лубочные картинки; вышедшую из моды литературу, церковную латынь, безграмотные эротические книжонки, романы времен наших бабушек, волшебные сказки, тонкие детские книжки, старинные оперы, вздорные куплеты, наивные ритмы.
Я погружался в мечты о крестовых походах, о пропавших без вести открывателях новых земель, о республиках, не имевших истории, о задушенных религиозных войнах, о революциях нравов, о движенье народов и континентов: в любое волшебство я верил.
Я придумал цвет гласных! А – черный, Е – белый, И – красный, У – зеленый, О – синий. Я установил движенье и форму каждой согласной и льстил себя надеждой, что с помощью инстинктивных ритмов я изобрел такую поэзию, которая когда-нибудь станет доступной для всех пяти чувств. Разгадку оставил я за собой.
Сперва это было пробой пера. Я писал молчанье и ночь, выражал невыразимое, запечатлевал головокружительные мгновенья.
X X X
Вдали от птиц, от пастбищ, от крестьянок,
Средь вереска коленопреклоненный,
Что мог я пить под сенью нежных рощ,
В полдневной дымке, теплой и зеленой?
Из этих желтых фляг, из молодой Уазы, —
Немые вязы, хмурость небосклона, —
От хижины моей вдали что мог я пить?
Напиток золотой и потогонный.
Я темной вывеской корчмы себе казался,
Гроза прогнала небо за порог,
Господний ветер льдинками швырялся,
Лесная влага пряталась в песок.
И плача я на золото смотрел – и пить не мог.
X X X
Под утро, летнею порой,
Спят крепко, сном любви объяты.
Вечерних пиршеств ароматы
Развеяны зарей.
Но там, где устремились ввысь
Громады возводимых зданий,
Там плотники уже взялись
За труд свой ранний.
Сняв куртки, и без лишних слов,
Они работают в пустыне,
Где в камне роскошь городов
С улыбкою застынет.
Покинь, Венера, ради них,
Покинь, хотя бы на мгновенье,
Счастливцев избранных твоих,
Вкусивших наслажденье.
Царица Пастухов! Вином
Ты тружеников подкрепи! И силы
Придай им, чтобы жарким днем
Потом их море освежило.
X X X
Поэтическое старье имело свою долю в моей алхимии слова.
Я приучил себя к обыкновенной галлюцинации: на месте завода перед моими глазами откровенно возникала мечеть, школа барабанщиков, построенная ангелами, коляски на дорогах неба, салон у глубине озера, чудовища, тайны; название водевиля порождало ужасы в моем сознанье.
Затем я стал объяснять свои магические софизмы с помощью галлюцинации слов.
Кончилось тем, что мое сознание оказалось в полном расстройстве. Я был праздным, меня мучила лихорадка: я начал завидовать безмятежности животных – гусеницам, которые олицетворяют невинность преддверия рая, кротам, символизирующим девственный сон.
Мой характер стал желчным. Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов:
Песня самой высокой башни
Пусть наступит время,
Что любимо всеми.
Так терпел я много,
Что не помню сам;
Муки и тревога
Взмыли к небесам,
И от темной жажды
Вены мои страждут.
Пусть наступит время,
Что любимо всеми.
Брошенное поле
Так цветет порой
Ароматом воли,
Сорною травой
Под трезвон знакомый
Мерзких насекомых.
Пусть наступит время,
Что любимо всеми.
Я полюбил пустыню, сожженные сады, выцветшие лавки торговцев, тепловатые напитки. Я медленно брел по вонючим улочкам и, закрыв глаза, предлагал себя в жертву солнцу, этому богу огня.
«Генерал, если старая пушка еще осталась на твоих разрушенных укреплениях, бомбардируй нас глыбами засохшей земли. Бей по стеклам сверкающих магазинов, бей по Салонам! Вынуди город пожирать свою пыль. Окисью покрой желоба! Наполни будуары вспыхнувшим порохом!»
О мошка, опьяневшая от писсуара корчмы, влюбленная в сорные травы и растворившаяся в луче!
Голод
Уж если что я приемлю,
Так это лишь камни и землю,
На завтрак ем только скалы,
Воздух, уголь, металлы.
Голод, кружись! Приходи,
Голод великий!
И на луга приведи
Яд повилики.
Ешьте булыжников горы,
Старые камни собора,
Серых долин валуны
Ешьте в голодную нору.
X X X
Волк под деревом кричал,
И выплевывал он перья,
Пожирая дичь… А я,
Сам себя грызу теперь я.
Ждет салат и ждут плоды,
Чтоб срывать их стали снова.
А паук фиалки ест,
Ничего не ест другого.
Мне б кипеть, чтоб кипяток
Возле храма Соломона
Вдоль по ржавчине потек,
Слился с водами Кедрона.
Наконец-то – о, счастье! о, разум! – я раздвинул на небе лазурь, которая была черной, и зажил жизнью золотистой искры природного света. На радостях моя экспрессивность приняла шутовской и до предела туманный характер.
Ее обрели.
Что обрели?
Вечность! Слились
В ней море и солнце!
О дух мой бессмертный,
Обет свой храни,
На ночь не взирая
И пламя зари.
Ведь сбросил ты бремя —
Людей одобренье,
Всеобщий порыв…
И воспарил.
Надежды ни тени,
Молитв ни на грош,
Ученье и бденье,
От мук не уйдешь.
Нет завтрашних дней!
Пылай же сильней,
Атласный костер:
Это твой долг.
Ее обрели.
Что обрели?
Вечность! Слились
В ней море и солнце!
X X X
Я превратился в баснословную оперу; я видел, что все существа подчинены фатальности счастья: действие – это не жизнь, а способ растрачивать силу, раздражение нервов. Мораль – это слабость мозгов.
Каждое живое создание, как мне казалось, должно иметь за собой еще несколько жизней. Этот господин не ведает, что творит: он ангел. Это семейство – собачий выводок. В присутствии многих людей я громко беседовал с одним из мгновений их прошлого существования. – Так, я однажды полюбил свинью.
Ни один из софизмов безумия – безумия, которое запирают, – не был мною забыт: я мог бы пересказать их все, я придерживаюсь определенной системы.
Угроза нависла над моим здоровьем. Ужас мной овладел. Я погружался в сон, который длился по нескольку дней, и когда просыпался, то снова видел печальные сны. Я созрел для кончины; по опасной дороге меня вела моя слабость к пределам мира и Киммерии, родине мрака и вихрей.
Я должен был путешествовать, чтобы развеять чары, нависшие над моими мозгами. Над морем, которое так я любил, – словно ему полагалось смыть с меня грязь – я видел в небе утешительный крест. Я проклят был радугой. Счастье было моим угрызением совести, роком, червем: всегда моя жизнь будет слишком безмерной, чтобы посвятить ее красоте и силе.
Счастье! Зуб его, сладкий для смерти, предупреждал меня под пение петуха – ad matutinum и Christus venit – в самых мрачных глухих городах.
О замки, о семена времен!
Недостатков кто не лишен?
Постигал я магию счастья,
В чем никто не избегнет участья.
Пусть же снова оно расцветет,
Когда галльский петух пропоет.
Больше нет у меня желаний:
Опекать мою жизнь оно станет.
Обрели эти чары плоть,
Все усилья смогли побороть.
О замки, о семена времен!
И когда оно скроется прочь,
Смерть придет и наступит ночь.
О замки, о семена времен!
X X X
Это прошло. Теперь я умею приветствовать красоту.
VI. Невозможное
О, жизнь моего детства, большая дорога через все времена, и я – сверхъестественно трезвый, бескорыстный, как лучший из нищих, гордый тем, что нет у меня ни страны, ни друзей… какою глупостью было все это! Только сейчас понимаю.