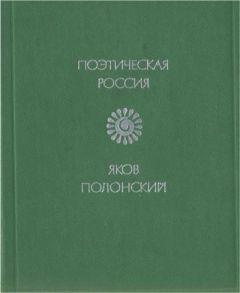Но он и сам был так весел, что готов был отплясывать; он, который, конечно, во всякое другое время не вынес бы моей плохой игры на пьянино, тут сам заставил меня играть танцы. Увы! плясовые песни еще кое-как удавались мне, полька тоже кое-как сошла с рук, но мазурка не давалась.
-- Играй! -- кричал мне Тургенев,-- как хочешь, как знаешь, валяй! Мазурку валяй! Лишь была бы какая-нибудь музыка... Ну, раз, два, три... ударение на раз... ну, ну!..
И вечер до чая прошел в том, что все присутствующие, в том числе и сам хозяин, плясали и танцевали кто во что горазд.
Не помню, в другое время или в этот же день, поздно вечером, Иван Сергеевич у себя в кабинете в первый раз прочитал нам с Савиной рассказ свой "Песнь торжествующей любви". На дам рассказ этот произвел сильное впечатление. Я был от него в восторге, но, признаюсь, никак не ожидал, что эта "Песнь" будет иметь успех в нашей публике. Так и сказал Тургеневу. Очень рад, что мое пророчество не сбылось: значит, художественное чутье публики стало гораздо откровеннее.
На другой день, 18-го июля, Марья Гавриловна, вместе с своей горничной, села в коляску и навсегда покинула Спасское.
Были дни, когда мы все так друг друга смешили и так хохотали, что Тургенев раз, шутя, сказал: мы точно оба сумасшедшие, и дом мой -- дом сумасшедших.
Но все же мы не постоянно были вместе: меня занимали мои пейзажи, его -- письма и вообще кабинетные занятия. По вечерам иногда мы играли в шахматы. Тургенев был искусный шахматист, теоретически и практически изучил эту игру и хоть давно уже не играл, но мог уступить мне королеву и все-таки выигрывал.
Письмо из Парижа несколько его встревожило (признаться, потревожило и нас). М-те Виардо писала ему, что ее в нос укусила муха, что нос ее распух и что она ходит, перевязавши платком лицо. В письме она прислала и рисунок пером, изображающий профиль с перевязанным носом.
-- Если это ядовитая муха и заразила кровь, то это опасно... Я должен ехать во Францию,-- проговорил Тургенев.
-- Все бросить: и твое Спасское, и нас, и твои занятия -- и ехать?!
-- Все бросить... и ехать!
Началось перебрасывание телеграмм из Спасского в Буживаль, из Буживаля в Спасское.
Слава богу, ехать оказалось ненужным: опухоль носа стала проходить, и не предвиделось никакой опасности.
Но что значила эта тревога перед той, которая еще ожидала нас. Тургенев прочел в газетах, что в Брянске холера, и -- прощай веселость, остроты, смех, и проч., и проч.! Бледный, позеленелый пришел ко мне Тургенев и говорит:
-- Ну, теперь я не живу, теперь я только двигающаяся, несчастная машина.
Оказалось, что слово "холера" на Тургенева производит нечто вроде паники, поглощает все его мысли, делает его почти помешанным.
Но, несколько успокоенный тем, что это, во-первых, еще очень от нас далеко, а во-вторых, может быть еще и ложное известие, Тургенев поехал в свои ефремовские владения, был у своего арендатора и к 22-му июля вернулся ночью с расстроенным желудком.
На другой день он был еще туда-сюда, читал мне придуманную им на дороге сатиру. За обедом ничего не ел, и затем, к вечеру, опять напал на него страх. Он не спал всю ночь и ни о чем, кроме холеры, не думал.
-- Странный ты человек, Иван,--говорил я ему,-- ведь холера, если она и есть, в 300-х верстах от нас.
-- Это все равно...-- отвечал он как бы расслабленным голосом,-- хотя бы в Индии... Запала в меня эта мысль, попало это слово на язык, и -- кончено! Первое, что я начинаю чувствовать, это судороги в икрах, точно там кто-нибудь на клавишах играет. Как я могу это остановить -- не могу, а это разливает по всему телу тоску и томление невыразимое. Начинает сосать под ложечкой, я ночи не сплю, со мной делаются обмирания... и затем расстраивается желудок. Мысль, что меня вот-вот захватит холера, ни на минуту не перестает меня сверлить, и что бы я ни думал, о чем бы ни говорил, как бы ни казался спокоен, в мозгу постоянно вертится: холера, холера, холера... Я, как сумасшедший, даже олицетворяю ее; она мне представляется в виде какой-то гнилой, желто-зеленой, вонючей старухи. Когда в Париже была холера, я чувствовал ее запах: она пахнет какою-то сыростью, грибами и старым, давно покинутым дурным местом. И я боюсь, боюсь, боюсь... И не стра"ное ли дело, я боюсь не смерти, а именно холеры... Я не боюсь никакой другой болезни, никакой другой эпидемии: ни оспы, ни тифа, ни даже чумы... Одолеть же этот холерный страх -- вне моей воли. Тут я бессилен. Это так же странно, как странно то, что известный герой кавказский Слепцов боялся паука; если в комнате его появлялся паук, с ним делалось дурно. Другие боятся мышей, иные -- лягушек. Белинский не мог видеть не только змеи, но ничего извивающегося.
-- Да,-- возразил я,-- но как скоро у них не было на глазах ни паука, ни змеи, ни лягушки -- они были спокойны.
-- Это нельзя сравнить: против того, другого и третьего -- в вашей власти взять предосторожности, можно сделать так, что паук в комнате будет невозможен. Против всего можно принять меры, а какие меры могу принять я против возможности заболеть холерой? -- никаких. Ты говоришь, что это малодушие. Справедливо, но что же делать?
XXIV
Новая телеграмма, что в Брянске холера увеличивается и что недостает врачей, окончательно повергла Тургенева в панику. Он уже ни о чем не мог говорить, кроме холеры и тех ощущений в теле, которые он преувеличивал и принимал за признаки начинающейся болезни.
Я посоветовал ему съездить в Москву и рассеяться.
-- Это нисколько не поможет,-- сказал он.
Самый вид его сделался какой-то растерянный -- он как бы обрюзг и осунулся.
Иногда только, оживленный нашим присутствием, он как бы и сам оживлялся и начинал рассказывать, но все-таки рассказывать такие анекдоты, суть которых все-таки была -- холера.
Так, например, рассказывал он, что одному холерному слуга его стал растирать ноги. Больной взглянул на ноги, увидел, что они почернели, и так испугался, что мгновенно умер; а ноги-то у него почернели оттого, что слуга стал их растирать сапожной ваксяной щеткой.
А один прусский офицер заболел холерой и брошен был товарищами на какой-то станции. Через час на ту же станцию прибыла компания других офицеров. Стали они ужинать и пить шампанское. Увидели, что в углу на полу лежит тоже какой-то офицер и стонет. Это нисколько их не сконфузило. Умирающий приподнялся и попросил перед смертью дать ему шампанского. Ему дали целую, только что откупоренную бутылку. Тот ее и выдул. Заснул, вспотел и на другой день проснулся здоровым.
Только спустя неделю, когда даже и в Брянске не оказалось уже ни одного холерного, Иван Сергеевич успокоился, мог опять спорить, говорить и читать.
В своих спорах со мной Иван Сергеевич постоянно обнаруживал крайне безотрадное, пессимистическое миросозерцание. Никак не мог он помириться с тем равнодушием, какое оказывает природа -- им так горячо любимая природа -- к человеческому горю или к счастью, иначе сказать, ни в чем человеческом не принимает участия. Человек выше природы, потому что создал веру, искусство, науку, но из природы выйти не может -- он ее продукт, ее окончательный вывод. Он хватается за все, чтоб только спастись от этого безучастного холода, от этого равнодушия природы и от сознания своего ничтожества перед ее всесозидающим и всепожирающим могуществом. Что бы мы ни делали, все наши мысли, чувства, дела, даже подвиги будут забыты. Какая же цель этой человеческой жизни?
Впрочем, от таких тяжелых мыслей был недалек переход и к веселым картинкам, которые подносят нам римские писатели и французские классики прошлого столетия. Тургенев забыл по-гречески, но латинские книги читал еще легко и свободно.
Ему очень нравилось выражение Бекона: ars est homo additus naturae -- искусство есть человек, добавленный к природе, и выражение Паскаля: люди не могли дать силы праву и дали силе право.
Иногда он вслух читал или заставлял меня читать монологи из Корнеля, Мольера и других. Иногда сравнивал наши русские переводы с подлинниками, и проч., и проч.
Старый французский поэт 18-го столетия, отысканный им в своей библиотеке -- Жан-Батист Руссо, иногда несказанно забавлял его своими коротенькими рассказами в стихах о католических священниках и исповедниках. Дурная погода поневоле заставляла Ивана Сергеевича Тургенева зарываться в книгах. Кроме книг, газеты ежедневно приходили к нам; но нельзя сказать, чтобы мы охотно читали их... Однажды (если не ошибаюсь, 2-го августа) Тургенев прочел в "Новом Времени" известие, что он пишет детские повести, а я у него гощу в деревне.
-- А что,-- сказал я шутя,-- если напечатают, что я дою гвоздь, а ты добиваешься меда из ржавой подковы.
-- Нет,-- возразил он со смехом,-- ты доишь гвоздь, а я держу шайку.
Дожди в такое время, когда созрела рожь и пора была жать ее, не раз заставляли Тургенева сокрушаться. "И есть хлеб, и нет хлеба! -- восклицал он.-- Каждый такой день в России приносит ей миллионные убытки!"