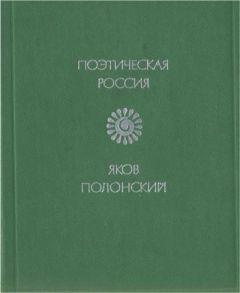-- По ком же панихиду? -- спросил я,-- ведь не знали же вы, что за человек.
-- А есть такая панихида, называется: вселенская. Когда она бывает? -- спросил рассказчик своего отца, заштатного священника.
-- А бывает она в Дмитров день, в память убиенных при Дмитрии Донском, на татарском побоище.
-- Ну-с, отслужили вселенскую панихиду -- тем все и кончилось. Об этом тоже было доложено архиерею, он не знал, что ему и подумать, и решил, что это верно какой-нибудь грешник утонул в болоте и погиб без отпевания. И что же-с? Ведь с той самой панихиды он так и перестал являться. Расспрашивали стариков, не пропадал ли кто, не вспомнят ли кого, чтоб кто утонул в том болоте. Думали, думали,-- ничего не припомнили. Нуте-ка-с, что вы на это скажете? Ведь это было у всех на глазах. Вот и отец мой тут был. Как же все это понять-то? Спрашивали и ученых и много об этом толковали, по ни до чего не дотолковались.
Что же я мог сказать им? Не мог же я думать, что они все это сочинили,-- рассказы их очевидно были проникнуты верой и искренностью неподдельной. Да и какая цель была бы им меня морочить??
Все это я передал слово в слово Ивану Сергеевичу -- он рассердился...
-- Что они говорят про "залом"!.. Я сам ходил смотреть на такой залом,--крестьяне повели меня,-- я его разорил, вышелушил из него зерна и при них эти зерна съел, к немалому их ужасу, -- думали, что я тут же почернею и умру... не почернел и не умер.
-- Темнота, суеверие и легковерие,-- сказал он с досадой,-- это три пальца на одной руке,-- где один, там другой, там и третий.
XXVI
Чем хуже была погода, тем долее засиживались мы по вечерам и тем позднее вставали. Однажды ночью, когда я уже собрался лечь спать, а жена моя писала письмо, к нам в дверь постучался Иван Сергеевич.
С выражением не то испуга, не то удивленья, вошел он к нам в своей коричневой куртке и говорит: что за чудо! стучится ко мне в окно какая-то птичка, так и бьется в стекло. Что делать?
Жена моя пошла с ним в его кабинет и минут через пять приносит в руках своих маленькую птичку, гораздо меньше воробья, с черными, очень умными глазками. Птичка эта тотчас же влетела в комнату, как только открыли окошко; сначала не давалась в руки, но потом, когда ее поймали, очень скоро успокоилась, только поворачивала головку и поглядывала то на Тургенева, то на жену мою. Какая это птичка -- Тургенев не мог сказать; он знал только, что птички эти появляются в Спасском перед осенью. Он уже видел их несколько в цветниках на тычинках перед террасой, и, как он заметил, это пророчило раннюю осень.
Птичку посадили в корзинку, и она уселась в ней точно в собственном своем гнездышке, не обнаруживая ни беспокойства, ни недоверия. Корзинку с птичкой отнесли в пустую Савину комнату (так стали мы называть ту комнату, где ночевала М. Г. Савина) и поставили на окно. На другой день, утром, когда проснулись дети, корзинка эта была вынесена на террасу, и гостья-птичка выпущена на свободу. Помню, как она взвилась, полетела по направлению к церкви и потонула в сыром утреннем воздухе.
-- Вот полетела на волю,-- сказал Тургенев,-- а какой-нибудь копчик или ястреб скогтит ее и съест.
В этом посещении птички Иван Сергеевич готов был видеть нечто таинственное.
-- Впрочем,-- сказал он,-- все так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному и всегда сопровождается пустяками.
XXVII
Чем ближе подходило время к августу, тем все более и более какая-то меланхолическая грустная струнка звучала в душе и словах Ивана Сергеевича. Почему-то он был убежден, что умрет 2-го октября того же года (не потому ли, что 1881 год по сумме цифр совпадал с 1818 годом, когда он родился).
-- Ни за что бы я не желал быть похороненным,-- говорил он,-- на нашем спасском кладбище, в родовом нашем склепе. Раз я там был и никогда не забуду того страшного впечатления, которое оттуда вынес -- сырость, гниль, паутина, мокрицы, спертый могильный воздух... Брр!..
Да если бы Иван Сергеевич и желал быть похороненным в этом склепе, едва ли бы это было возможно: склеп помещался под полом каменной часовни; часовня эта с фронтонами, колонками и круглым куполом, издали похожая на павильон, уже полуразрушена; железные двери ее заржавели, карнизы обвалились, штукатурка местами обнажила кирпич, крест на куполе нагнулся, точно хочет убежать.
Мне хотелось проникнуть в эту усыпальницу, но Иван Сергеевич меня туда не пустил.
-- Там, того гляди, на тебя что-нибудь обрушится... Не ходи!
С этой часовни я сделал мой первый этюд в Спасском -- я писал с натуры издали, с верхнего балкона, в очень дурную, пасмурную погоду и неудачно -- первый блин вышел комом. Но рисунок часовни этой (так же как и дома), сделанный с фотографии, можно видеть и в журнале "Нива", в No 42, 1883 г.
Около часовни растут деревья, кое-где еще торчат памятники в виде каменных покачнувшихся столбиков и виднеются плиты, заросшие травой и бурьяном. Это старое господское кладбище, на котором уже никого более не хоронят.
На одном из памятников этого покинутого кладбища Иван Сергеевич припомнил следующую эпитафию:
"Бог Ангелов считал,
Одного не доставало,
И смертная стрела
На Лизаньку упала."
"Эта эпитафия,-- сказал мне Ив. Серг. (когда мы с ним гуляли),-- эта эпитафия была начертана на одном из камней, под которым была погребена девочка, дочь жившего или гостившего у нас когда-то архитектора (может быть, тогда, когда еще строили или отделывали наш старый сгоревший дом).
Когда я был еще мальчиком, я часто забегал и на кладбище. Раз, помню, через нашу деревню проходил какой-то полк; это было еще в царствование Николая; дорога шла около самого кладбища; я был там и смотрел на проходивших солдат. Был июль -- день был знойный. Вижу, к памятнику подходит какой-то старый, старый капитан, кивер в виде ведерка в чехле, штаны в сапогах, на голенищах следы засохшей грязи, седые усы и пыль,-- пыль по самые брови. Усталый, сгорбленный, увидел он надпись на камне и стал медленно читать:
Бог Ангелов считал...--
прочел, плюнул, выругался самой что ни на есть площадной руганью и пошел дальше. Помню, как это меня озадачило... Но разве в этой ругани не сказалась вся жизнь его -- бедная, скучная, тяжелая, бессмысленная и безотрадная... И то сказать -- если мужику, которого только что высекли в волостном правлении или который только что вернулся верст за двадцать в свою семью, брюзгливую и злую от того, что есть нечего, начать читать стихотворение Пушкина или Тютчева,-- если бы он даже и понял их, непременно бы плюнул и выругался... До стихов ли, в особенности нежных, человеку, забитому нуждой и всякими житейскими невзгодами".
XXVIII
22-го июля мы ходили с Иваном Сергеевичем в ореховую рощу (что за поповским прудом). Дорога была неровная, так что я, при помощи палки, не без труда спускался в рытвины и из них выкарабкивался.
С Ив. Сергеевичем мы говорили о женщинах, и мне пришлось на этот раз не соглашаться с ним. Он уверял меня, что женщинам чужда справедливость, что справедливыми они быть не могут, что это не их добродетель.
-- Только заметь,-- добавил он, как бы оправдываясь,-- я говорю не о правде, а о справедливости. Правда доступна и женщинам, правда,-- но не справедливость.
-- Одна француженка,-- продолжал он,--которую я невольно изобличил в ее ошибке или несправедливости, назвала меня невежей и варваром. И я с ней совершенно согласен, так как перед женщиной тем ты уже неправ, что правда не на ее, а на твоей стороне.
На это я отвечал, что я не побоюсь названия варвара и почту за долг любой красавице в глаза сказать, что она врет -- если только она врет (разумеется, не выходя из границ вежливости, без всякой резкости или грубости).
Но Тургенев на этот счет продолжал смотреть по-своему -- с французской точки зрения, и мне было досадно. В этом его взгляде на женщин он как бы оправдывал свою к ним слабость и их неограниченную власть над ним.
Вернувшись домой после завтрака, я спросил Ив. Сю, читал ли он английского поэта Свинборна и что он о нем думает.
-- В нем есть сила, но сила раздражающая; есть огонь, но нет той художественной формы, той меры, которая любой, самый горячий лиризм должна в узде держать. Он нравится, как ярый демагог и революционер. Но он не народен. За ним бегут, как иногда бегут на скандал. Его читают и любят молодые, горячие головы. Лично я никогда не встречал его.
-- А нового французского беллетриста Мопассана (Guy de Maupassant)?
-- Этого я немного знаю, он -- приятель Зола, и от Зола я слыхал о нем... Но если Мопассан развратен, как Казакова, то Свинборн -- как маркиз де Сад -- он распутен, как исступленный, как помешанный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .