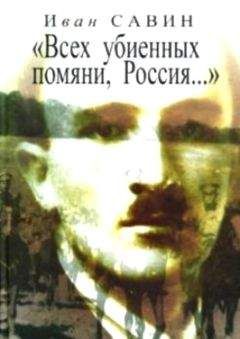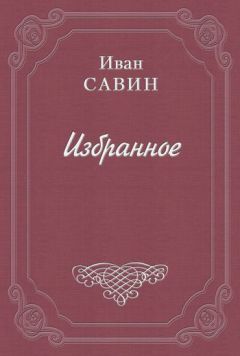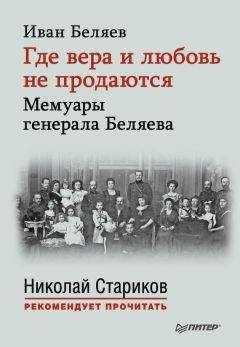Я встаю и начинаю одеваться — до города не близко, а уже темнеет.
— Да, вот еще интересный штрих, — продолжает Вера Осиповна, допивая чай (и муху), — крестьяне еще с грехом пополам пашут помещичьи земли, но строиться на них, несмотря на выгодные условия, отказываются. Одному — Степану Олыпенку — и лес уземотдел давал, и налогов обещал не взыскивать, только стройся… А Степан так прямо и сказал председателю: «Спасыби вашому батькови! Я выстрою хату, а барин вернется тай даст мини по шеям!»
— С башкой мужик, — говорю я. — А насчет банд как у вас? Пошаливают?
— Такого добра сколько угодно, господам коммунистам житья нет. Недавно появилась новая — «сыны обиженных отцов». Разъезжают по ночам в тачанках: специальность — охота за продналоговцами, тройками и пятерками. Поймают какого-нибудь хлебного агента… жестокость какая… вспорют живот и в окровавленных внутренностях оставляют записочку: «Продналог выполнил». Махновцы тоже нет-нет да появятся. Недели три тому назад ночевали в школе, говорили, что Махно идет не то из Румынии, не то из Польши с большой армией. Не знаю, правда ли…
— Ложь. Плуты они, махновцы эти. А Махно я собственноручно повесил бы на первой осине, — его «братушки» впереди всех ворвались в Перекоп. Заметьте, за месяц до того мой полк рядом с махновской сотней шел на красных. Авантюрист, больше ничего.
— Разбросали по селу своего рода прокламации. Показать? У меня — на русском языке, были и на украинском.
Вера Осиповна долго роется в тюфяке (там же у нее спрятаны на случай обыска: дешевое колечко с бирюзой, какая-то медаль на муаровой ленте, письма) и дает мне две бумажки синего цвета. На первой крупными печатными буквами от руки написано: «Встань, крестьянин и рабочий, коммунистов бить охочий», на второй: «Пятью пять — двадцать пять, Махно с Врангелем опять».
Выхожу на крыльцо. На ступеньках — мокрая вата снега. Дует легкий, сырой ветер. Сторожиха, в огромных валенках и тулупе, стоит у ворот и ест семечки, артистически расплевывая шелуху полукругом.
— Бабушка, а кто Императора Николая Александровича убил?
Старуха смотрит на меня пристально. Потом крестится мелким, бабьим крестом.
— Хиба сам не знаешь? Мыныстер Родзянко. И поднялась рука на царя, прости Господи!
Вера Осиповна улыбается, набрасывая на голову ковер (только теперь я убеждаюсь, что это самая настоящая гардина). Лицо ее становится совсем жалким и старым, когда, прощаясь, она говорит:
— Так вы, пожалуйста, если будет на примете служба какая — сообщите. Не могу я уже здесь больше. Не могу, да и только! Пожалуйста.
— И вы, значит, мелкими кражами?
— Все равно, хоть и крупными. Один мой знакомый, доморощенный философ, говорит, что при советской власти быть честным — нечестно и бессовестно. И потом…
Мне иногда приходится так туго, что будь я помоложе, не только мелкими кражами пошла бы промышлять, но и собой. Времячко! Досвидания…
Сторожиха дает мне на дорогу семечек, и я быстро иду в М.
(Русские вести. 1923. 22 февраля. № 199) III. Комячейка
В М-льском уездном военном комиссариате, где я в прошлом году до беспамятства щелкал на пишущей машине за ржавую селедку и фунт сырого хлеба в день (как мы дрожали над каждой крошкой, боже мой!), комячейку составляли: товарищ Марин (Зильберман), товарищ Сидоркин и товарищ Мария Егоровна. В нормальное время все трое, даже сложенные вместе, яйца выеденного не стоили бы. Давая Сидоркину четвертак на чай или заказывая Марье Егоровне белье, вы бы не запомнили их лиц, плоских и уродливых. Но в ненормальное время переоценок всех ценностей и выеденных яиц они так высоко прыгнули вверх и так отразили на себе все типичное для советской знати, коммунистов тож, что было бы непростительно умолчать об этой бравой тройке.
Товарищ Марин был демагог чистейшей воды, явный нахал и скрытый дурак, и эти особенности характера переплелись в нем весьма замысловато. Сын местного купца, он в мирное время занимался тем, что ходил по городу в фуражке студента-технолога и недурно играл в футбол. В германскую войну технологическую фуражку заменило кепи английского образца со значком санитара. В свободные от дела милосердия часы он работал на оборону — спекулировал сахаром; после брест-литовского скандала скрылся с горизонта, года два варился в соку пролетарской революции и вернулся таким идейным большевиком, что, по словам старика Зильбермана, «от него за три версты пахло мошенником». Появившись в М., товарищ Марин окопался в военном комиссариате, освобождавшем от службы в Красной армии, и вскоре был «избран» — на пост председателя комячейки. Говорить он мог по крайней мере 27 часов в сутки. Ораторствуя, нанизывал абсурд на тупость, демагогию на хвастовство, ежеминутно уснащая свою речь передержками и потугами на остроумие из репертуара товарища Зиновьева. Эта граммофонная неутомимость и высшая школа дрессировки по неправильно понятому Марксу и дали одному из моих бывших сослуживцев право сказать, что «товарищ Марин говорит как Соломон, только не так умно».
При взгляде на товарища Сидоркина теория появления его на свет божий представлялась мне в таком виде: лежала в Вятке (он был вятский рабочий) груда человеческого мяса, и вот на нее навалили нежданно-негаданно товарища Марина, сильно прихлопнув сверху, — и все добродетели этого последнего отпечатались в мыслях, сердце и душе Сидоркина обратной стороной, образовав такую сумбурную кашу понятий и представлений, что подчас на него было просто больно смотреть. Он не был демагогом, не пытался ставить здравый рассудок вверх ногами, но называть белое красным или наоборот и уверять в этом других — у него хватало и упорства, и наивной веры. Не был он и особенным нахалом и, кажется, не был дураком, но от природы некрепкая да еще вконец размитингованная голова при каждом соприкосновении с живой жизнью и ее непредусмотренными коммунистической программой явлениями, будь то социал-предательство рабочих или нэп, — недоумевающе трескалась, и изливался из нее такой поток ребяческого бахвальства и виртуозной глупости, что хоть святых выноси.
Товарищ Марья Егоровна была старой девой. (Характерно, что почти все русские коммунистки — по крайней мере мне лично не приходилось сталкиваться с исключением из этого правила — или старые девы, или бывшие аптекарские ученицы, или и то и другое вместе.) Невысокого роста, довольно полная, с физиономией столь уродливой, что, кажется, поднеси к ней стакан молока — молоко скиснет, Мария Егоровна была ярой последовательницей и апологетом тогда прошумевшего на всю Россию проекта саратовского женотдела, по которому женщинам предоставляется безапелляционное право избирать себе мужей, и в первую очередь старым девам, и искренне возмущалась, когда ВЦИК отверг проект как «провоцирующий женское равноправие».
Деятельность комячейки разделялась на две части — идеологическую и практическую. В чем выражалась сторона практическая, будет сказано ниже, а вот — сторона идеологическая (у нас она называлась проще — идиотическая).
Без четверти пять. Дописываю копию седьмого за сегодняшний день весьма спешного приказа Склянского — приказы зампредвоенсовета Склянского, как известно, пишутся столь же часто и с таким же успехом, как и ноты наркоминдела Чичерина. Через четверть часа закрою «Ремингтон» и — айда. Усядусь с ногами на кровати и буду думать. О чем? Ах, так много дум у ненадежных элементов! А потом, когда поползут по небу светляки — звезды, когда чье-то сердце шелками заменит мои лохмотья — буду смотреть в глаза нежно-суровые и трепетные и…
И вдруг — в дверях товарищ Марья Егоровна.
— Товарищи, в пять собрание общей канцелярии. Прошу не опаздывать.
Гневно набрасываю на машину чехол и иду вниз. Поскорей бы одеться и удрать пока не поздно. Увы! — внизу толпу таких же, как я, беглецов сдерживает дежурный красноармеец.
— Назад, назад, товарищи! Никого не велено пускать. Тебе говорят или нет? Куда лезешь?!
Делопроизводитель Талаков с гримасой держится за щеку.
— Зубы… ей-богу… к доктору только пойду, через десять минут вернусь…
— Принесите записку от товарища Марина. Мне что? Что приказано — исполняй.
Ругаясь, плетемся в общую канцелярию. Там темно и пусто. Сидоркин стоит у окна и, нелепо шевеля толстыми губами, заучивает что-то наизусть. Марья Егоровна злится.
— Разве вас приучишь к дисциплине? Марченко, позовите всех. Шестой час уже.
Марченко уходит и не возвращается. Дежурный живет с ним в одной квартире и, вероятно, отпустил его с миром. Ждем пять, десять, двадцать минут. Никого.
Марья Егоровна пулей срывается с места и с криками обегает отделы комиссариата. К шести общая канцелярия наполняется служащими. Садятся на столах, на подоконниках — стульев мало. Каждый расписывается на особом листе, стремясь расписаться и за кого-нибудь отсутствующего. Двадцати трех из шестидесяти — нет. Завтра их фамилии будут красоваться на черной доске. Какое горе, подумаешь!