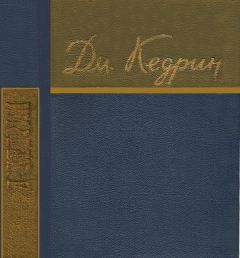1943-1959
ПЕСНЯ О СТРАДАНИЯХ ПОДРУГИ
поэма
Дни за днями ходим рядом
эстакадою литой
с нашим горем и отрадой,
с нашей Любкой золотой.
Отсмеялись, забывая,
что на горе нам дана
на четырнадцать товарищей
учетчица одна.
С нею — друга не отбреешь
словом, крепким сгоряча,
ни за что не пожалеешь
онемевшего плеча.
Поворачивайся, кабы
на безусых мужиков
дорогая (всё же баба)
не глядела вожаком.
Где уж нам уж до любови,
коли, губы не раскрыв,
улыбается любому,
вроде ласковой сестры,
синим глазом не разведав,
кто измучился любя...
...Отсмеялись за беседой,
отстрадали про себя.
Так по своему урону,
у обиды в поводу,
проморгали, проворонили мы
девичью беду.
Не заметили, как песней
да ухваткой плясовой
неизвестный нам ровесник
водит девку за собой,
будто клятвой отвечая,
самой лучшей, самой той,
августовскими ночами
перед звездочкой святой.
Дни зарницами летели,
август сказкой позади...
Вот осенние недели
и недельные дожди.
В эту пору смутным часом
подошла в ночи одна.
Постояла, постучала
в стекла нашего окна.
Отворили, привечали,
словно время нипочем,
поздоровалась печально,
не спросила ни о чем.
Мы молчали. Было тихо.
И никто спросить не мог:
— Что за горе, что за лихо,
синеглазый огонек?..
Не почуяли, не знали
неразгаданную боль,
что окончилась слезами
злая девичья любовь.
И, как будто ради смеха,
всей судьбе наперекор,
сам любимый вдруг уехал
от любви своей, как вор.
Дни снежинками летели,
ветром путались в ногах...
Вот февральские метели,
перелетные снега.
Каждый день и каждый месяц
эстакадою литой,
как всегда, ходили вместе
с нашей Любкой золотой.
В холоду поземок вьюжных,
втихомолку, как могли,
пуще камушка-жемчужины
девчонку берегли.
По особенной поруке,
оградив ее собой,
всю работу в наши руки
брали мы наперебой.
Только где-то днем недальним,
не спросив самой пока,
поневоле загадали
день прощального гудка.
Мы же знали, скоро-скоро,
по причине горевой
Любка бросит горный город —
город славы мировой.
И на родине равнинной
с материнской долей мук
склонит голову повинную
в родительском дому.
И потянутся недели
надоедливым житьем
у высокой колыбели
над оплаканным дитем.
Нас припомнит ненароком
на работе заводской...
...Ночь за дверью, сон у окон,
губы скованы тоской.
Жили мы, не замечая,
как пришла весна, и вот
белый свет кипит ручьями,
в теплом золоте живет.
Цвет земной лежит на взгорьях,
по реке летит вода.
Позабыла девка горе,
позабыла холода.
Целый день зима лютая,
белоснежная гроза
по снежинкам тихо тает
в настрадавшихся глазах.
Да еще до боли узок,
перетянут в час любой
тонкий пояс каждой блузки —
белой, синей, голубой.
И, душевность сберегая,
как-то в полдень лучевой,
мы сказали: — Дорогая,
обойдемся... Ничего...
Поняла. И побледнела.
Со слезами на глазах
улыбнулась: — Ваше дело...
И ушла, не досказав.
День скучала, отдыхая,
а с утра пришла назад.
Всё стояла. Всё вздыхала.
Улыбалась невпопад.
Дома солнышко не светит,
в доме, зимнем и глухом,
все соседки, все соседи
бредят девичьим грехом.
День такой, огнем богатый,-
за недели, за года
все товарищи-ребята
не забудут никогда.
На широком белом свете
громко пели молотки,
улетали с южным ветром
синекрылые гудки.
На горе гудели камни,
поезда дышали в ход.
Мы горячими руками
с жарких лиц стирали пот.
От разлета безголосы,
распалены, как огонь,
брали с ходу под колеса
эстакадный перегон.
Любка, словно бы хмелея,
зашаталась на бегу,
белой кофточки белее,
простонала: — Не могу...
Снизу — грохот без ограды,
сверху — небо, с неба — зной.
Полетела эстакада
мимолетной тишиной...
Вдруг во все врываясь звоном,
как тревога, как беда,
засверкали телефоны,
закачались провода.
Три минуты — часом плыли,
будто впрямь из дальних стран,
красный крест автомобиля,
белоснежная сестра.
Любка, слезы пересилив,
улыбается добрей,
только губы спеют синью,
будто вишня в сентябре.
По ступенечкам отвесным
по настилу белых плах
мы снесли ее, как песню,
на взволнованных руках.
И погас, умчался былью
невеселый красный крест —
за гудком автомобиля,
за дорожный переезд.
В ночь ресницы не смежили,
всё гадали, всё тужили.
Утром в наш открытый дом
залетела весть о том,
как в другом, незнамом доме
белых коек и палат
несказанно молодого
Любка сына родила...
Мы пошли своей дорогой,
в вечный грохот, в черный дым,
и задумчивы немного
и отчаянно тверды.
За день отдыха не знали,
жаром-полымем дыша,
думкой тайною за нами
целый день девчонка шла.
И дышал — спокойно белый,
и кричал, сквозь дым и гром,
стоголосой колыбелью
дивный дом, родильный дом.
Развернули зори крылья...
И нежданно в час такой
двери легкие раскрыла
белой робкою рукой.
Говорила. Голос звонок.
Свет широкий в окна тек.
И заплакало спросонок
неразумное дите.
Кто расскажет,- потому ли
мы, впервые на веку,
сами руки протянули,
улыбнулись пацанку.
На лету минуток ясных
позабыли про часы.
И крутили миру на смех
долгожданные усы.
В эту пору, в это утро
не бывало на земле
старше ласковых и мудрых —
нас, проживших двадцать лет.
Солнце всходит и заходит,
снова ты в жару и дождь —
с непокорными в походе,
непокорная, идешь.
Гром гремит без перебоя,
гром гремит без берегов
и берем всегда с тобою
эстакадный перегон.
Чуть помянешь, как бывало,
как в тумане, как во сне,
как любила, как страдала,
как родила по весне.
А пока ложатся росы,
незаметны и легки,
под высокие колеса,
под сухие каблуки.
1933
из поэмы «Калина Баев — крестьянский сын»
Каждый день страна рядила
в подорожный суховей
самых верных и родимых,
самых первых сыновей.
............
Час за часом, год за годом,
зубы стиснув, руки сжав,
мы прошли огонь и воду,
смех и горе, лед и жар.
С нами, плеч не разгибая,
потом вымыт, славой сыт,
жил да был Калина Баев —
молодой крестьянский сын.
Как он встанет на заре,
над открытым миром,
хлопнут тысячи дверей
в городских квартирах.
Морем глаз вокруг горя,
здорово и мудро,
за него сама заря
объявляет утро.
И по всем статьям поры,
от земли до леса,
мир захвачен в топоры,
в переплет железа.
Сердце гор лежит в ногах,
бьется частым боем,
встала радуга-дуга
вровень с головою.
И земля на полный мах
вышла синим кругом,
и горят во всех громах
золотые руки.
Только вихорь забусит
потные сорочки.
Только катятся часы
пулеметной строчкой.
А пойдет Калина сам —
все возьмет руками,
вырастают корпуса,
бьются насмерть камни.
От забоя до реки,
по цехам долинным
нет дорожек, по каким
не ходил Калина.
Помнят ночи, помнят дни
и зимой и летом.
Слава гонится за ним,
от него — по свету.
Сто газет портретов ждут
почтой скороходной,
репортеры на ходу
целятся повзводно.
Но, как гром, не возмутим
никакой погодой,
он берет свои пути
в боевые годы.
Дымки песен разостлав
выше поднебесья,
три великих ремесла
знает лучше песен.
Первое — по топору
пустыри разметив,
неизменной парой рук
строить все на свете.
По второму — с камнем в спор,
подымая удаль,
вырывать из горла гор
потайные руды.
А про третье ремесло
много славы, мало слов.
Это — век на свете жить,
сталь отменную варить...
Провода гудят недаром,
по земле несут молву,
каждый знает сталевара,
что Калиною зовут.
Ста морями хлещет плавка,
в темны ночи ярче дня,
зори прежние в отставке
по бессилию огня.
И теперь в сплошных пожарах
небо над Магнит-горой
для всего земного шара
стало вечною зарей.
1933