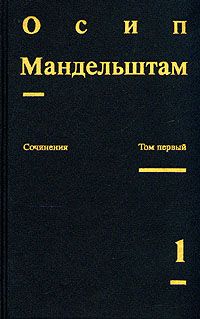2. «Когда душе и то́ропкой и робкой…»
Когда душе и то́ропкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.
Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука – первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь – в продольный лес смычка –
И льется вспять, еще ленясь и мерясь
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна, –
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.
Январь 1934
«Он дирижировал кавказскими горами…»
Он дирижировал кавказскими горами
И машучи ступал на тесных Альп тропы,
И, озираючись, пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.
Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венок.
Январь 1934
«А посреди толпы, задумчивый, брадатый…»
А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравер – друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.
Как будто я повис на собственных ресницах,
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Порядок зрения и многолюдства чин!
Январь 1934
«Откуда привезли? Кого? Который умер?..»
Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где ‹…….›[8]? Мне что-то невдомек.
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек.
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.
Молчит, как устрица, на полтора аршина
К нему не подойти – почетный караул.
Тут что-то кроется, должно быть, есть причина.
‹………….›[8] напутал и уснул.
«Мастерица виноватых взоров…»
Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.
Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.
Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..
Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.
Ты, Мария, – гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить – уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.
13–14 февраля 1934
«Твоим узким плечам под бичами краснеть…»
Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.
Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.
Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.
1934
Воронежские тетради (1935–1937)
«Я живу на важных огородах…»
Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.
Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.
И богато искривилась половица –
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится –
Только смерть да лавочка близка.
Апрель 1935
«Наушнички, наушники мои!..»
Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса́ Аи
И в полночь с Красной площади гудочки…
Ну как метро?.. Молчи, в себе таи…
Не спрашивай, как набухают почки…
И вы, часов кремлевские бои, –
Язык пространства, сжатого до точки…
Апрель 1935
«Пусти меня, отдай меня, Воронеж…»
Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож…
Апрель 1935
«Я должен жить, хотя я дважды умер…»
Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти…
Апрель 1935
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.
Апрель 1935
Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, –
Комочки влажные моей земли и воли…
В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа –
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.
И все-таки земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, –
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо…
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст…
Черноречивое молчание в работе.
Апрель 1935
«Лишив меня морей, разбега и разлета…»
Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета –
Губ шевелящихся отнять вы не могли.
Май 1935
«Да, я лежу в земле, губами шевеля…»
Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,
На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,
Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.
Май 1935* * *
I. «Как на Каме-реке глазу темно, когда…»
Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.
В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.
Упиралась вода в сто четыре весла –
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.
А со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.
II. «Как на Каме-реке глазу темно, когда…»
Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.
В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.
Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.
Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен
Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.
На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.
И речная верста поднялась в высоту.
III. «Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток»
Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на буек.
И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.
И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.
Апрель – май 1935
1
Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки –
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.
2
Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разделили. А теперь – пойми:
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!
3
Подумаешь, как в Чердыниголу́бе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, –
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки –
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.
4
И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока…
5
Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла…
6
Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.
7
И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен…
Как «Слово о полку» струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружье,
Сухая влажность черноземных га!
Май – июнь 1935
«День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток…»