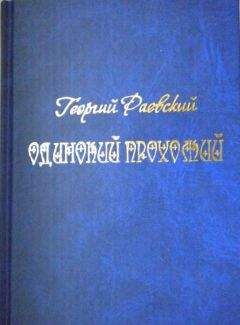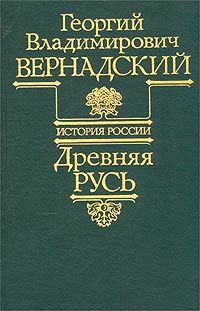И еще потому, что он хорошо знает, что:
…грозной круговой порукой
Мы связаны, и не дано
Одним томиться смертной мукой,
Другим пить радости вино.
Не страшит его и собственное злорадное и пророческое:
Ты думаешь: в твое жилище
Судьба клюкой не постучит?..
Вспоминая об этой «клюке», он, вероятно, думает и о тех, которые когда-нибудь, так же, как он сейчас, скажут друг другу:
Сядь сюда, ко мне — и вместе
Тех мы вспомним в этот час,
О судьбе которых вести
Больше не дойдут до нас…
Всё его существо пронизано «соборностью», «преодолением раздельности земного бытии». И только в этом смысле решаюсь я назвать его поэзию «благополучной». Ведь жизнь каждого подлинного христианина, несмотря даже на «венец мученический», в каком-то высшем смысле глубоко «благополучна». «В тихой заводи все корабли», как когда-то сказал А. Блок, тоскуя и не веря этой «заводи».
Но на мирном оптимизме Г. Раевский не успокаивается.
В личной жизни человека «клюка судьбы». А вот это уже относится ко всему нашему поколению и тематически сближает этот цикл стихов Г. Раевского с «Европейской ночью» В. Ходасевича и со «Стихами о Европе» А. Ладинского. Раевский горестно констатирует:
Европа, угрюмо и страшно
Ты гибнешь, ты тонешь: вода
Твои исполинские башни
Готова покрыть навсегда.
Но с веткой масличною птица
Не будет, слетев с высоты,
Над верным ковчегом кружиться:
Его не построила ты.
Для него уже давно: «Дома горят, отечества горят», и ясно, «С какими силами, забыв о небе, мы заключили искренний союз».
Но констатируя, он идет и дальше. И вывод его все тот же, пронизывающий всю его поэзию:
Не стоит с жадностью такой
Так страстно ставить на земное:
Ты не возьмешь его с собой.
Это спасает его стихи от излишнего «благополучия» и дает им ту тревогу, без которой настоящая поэзия невозможна.
Связь человека с потусторонним совсем не символ, а реальность для Раевского. И «неба светлые сыны» являются ему вовсе не на фресках старых мастеров, а здесь, в будничной повседневности, как «друга» изнемогающих.
В стихах о природе часто ощущается большая близость Г. Раевского к Тютчеву.
Но, если многие и многие интонации напоминают о Тютчеве, то духовная установка Г. Раевского уже иная: «не сомнение, а достоверность». Раевский не хочет ни на минуту забыть: «Какого пламени предтеча светорожденный пламень твой».
Любовная его поэзия тоже как бы окутана серебристой паутиной бабьего лета. Женщина для него — кроткая подруга, мудрая в своей беспомощности и женственности, инстинктом знающая правый путь. Эта женщина учит его прежде всего радости, спящей в тайной глубине сердца.
Описывает он не начало любви, а её осень.
Ты задремала, друг, а я — в который раз —
Гляжу на тонкие морщинки возле глаз,
На голову твою, где седина всё чаще
Мелькает в волосах. — В простой и настоящей
Любви моей к тебе что может изменить —
Свидетельница лет — серебряная нить.
Осень жизни, как и осень в природе, влечет Раевского. Ведь только на склоне «полнее цену этой жизни знаем мы», и только старость нас «выводит понемногу на прямой вечерний путь».
Неудивительно, что при таком миросозерцании и смерть не страшит поэта. Он принимает её так же смиренно, как дерево, крот и пчела, и как старичок огородник. Он глубоко знает, что:
…В глубоком покое
Человек породнится с землей…
Несмотря на все предвестия гибели, он упрямо напоминает нам об одном:
Тебе на руки и на платье
Ложится предвечерний свет,
Как тихий отблеск благодати,
Как окончательный ответ.
«Грани». Франкфурт-на-Майне. 1954, № 21.
Юрий Иваск. Рецензия на сборник «Третья книга»
Здесь та поэзия, о которой Цветаева сказала: это искусство при свете совести; и оно совсем не беспомощное, как очень многие стихи, написанные с самыми благими намерениями, но слабые по качеству. Раевский «на деле» показывает, что совесть может «изъясняться» на языке чистом, тщательно выверенном. Одно из лучших стихотворений в сборнике — о мальчике-скрипаче, играющем на огромной эстраде. Хочется оградить его руками, не отдать смерти, злу, пустоте…
Господи, как страшно хрупко,
Как предельно беззащитно
Все, что хочет, что стремится
Рассказать земным о небе.
Эти стихи подсказаны любовью-заботой, любовью-совестью; и они прекрасно «сделаны», как и многие другие (напр, о братстве: Не хрустальный бокал, не хиосская гроздь, Но стакан и простое вино…). Однако, самое легкое, самое крылатое и наиболее счастливое стихотворение в этой книге лирически-беспредметно, блаженно-безответственно, и не поэтому ли оно так неотразимо:
Поезд несется, птица летит,
Дерево всеми ветвями шумит,
Легкое облако мчится.
На виадуке — далекий свисток…
В поле пустом — без путей, без дорог —
Тень молчаливо ложится,
Я не заметил, как день отошел…
Господи, что ж это? — Свет отошел!
Здесь легкое дыхание поэзии, только поэзии.
«Опыты». Нью-Йорк. 1955, № 4.
Юрий Терапиано. Георгий Раевский
Проходят важной поступью поэты…
Л. Гроссман
Эта строчка из заключительного стихотворения цикла сонетов о поэтах пушкинской плеяды Леонида Гроссмана мне вспомнилась, когда я собрался писать о Георгии Раевском.
Он, действительно, прошел «важной поступью» по своему поэтическому пути, преждевременно прерванному внезапной смертью (от разрыва сердца) 19 февраля 1963 года.
Младший брат уже известного поэта Николая Авдеевича Оцупа, участника петербургского «Второго цеха поэтов» под эгидой Н. Гумилева, Георгий Авдеевич Оцуп не мог писать под той же фамилией, ему надлежало придумать себе псевдоним.
Посоветовавшись с друзьями, Георгий Авдеевич его нашел: друг Пушкина, Раевский.
Это имя имело для него не только практический, но и символический смысл: Георгий Раевский был ревностным почитателем Пушкина, последователем классицизма и убежденным противником футуризма и всякой «зауми».
Даже в фигуре его было что-то от начала прошлого века: высокий, плотный, с важной осанкой, с ясным, сильным голосом, он походил на человека пушкинских времен. Он прекрасно читал свои стихи на литературных вечерах.
С «важностью» Г. Раевский принимал участие в литературных собраниях, делал, в случае надобности, замечания, вносил поправки, как правило, всегда очень верные и удачные.
Раевский очень внимательно относился к стихам всех своих коллег, а став со временем старше, с такой же благожелательностью и сосредоточенностью на том, о чем говорил, занимался и с поэтами «младших» поколений.
Он искренне любил хорошие стихи у всех — качество редкое! — и искренне радовался, когда читавшиеся кем-либо стихотворения были удачными.
Он обладал к тому же особой способностью делать поправки — другим.
«Ах, если б я мог так же хорошо видеть недостатки и делать поправки в своих стихах, как в чужих!» — воскликнул он однажды.
Поэты нового, «послевоенного», поколения любили его и очень ценили его отношение к ним, что было некоторыми из них засвидетельствовано в печати после его смерти.
Умея всегда очень обоснованно разбирать стихи на поэтических собраниях, Георгий Раевский никогда не писал статей о поэзии и не стремился стать критиком. Но шуточные пародии и эпиграммы, порой весьма злые и меткие он любил.
«Перекресточная тетрадь» — собрание эпиграмм и пародий, писавшихся в течение ряда лет группой поэтов «Перекресток», — включает немало таких произведений, где Раевский был автором или соавтором.
Выехав за границу совсем еще молодым человеком, Г. Раевский окончил университет в Германии. Прекрасно владея немецким языком, он хорошо знал немецкую литературу, прежнюю и современную. Среди немецких поэтов Раевский имел своего кумира — Гете. Он был первым (и единственным) гетеанцем среди парижских поэтов и любил цитировать Гете, как непререкаемый авторитет, во время литературных споров.