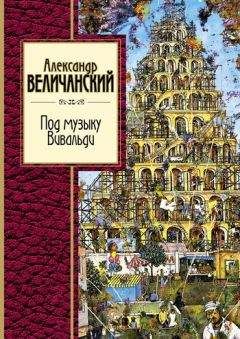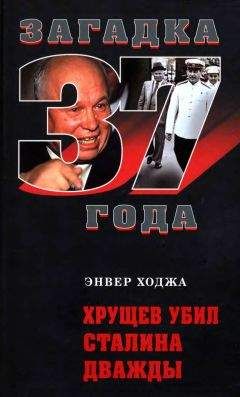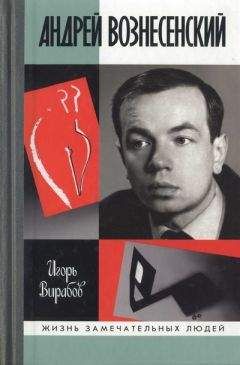«Пусть, как поземка низок…»
Пусть, как поземка низок —
как ветром ветра вой —
ты музыкой пронизан,
как музыка тобой.
Холодные астры.
Чуть теплые строки.
Высокие зори.
Глубокие росы.
Сусального солнца
прозрачные тени
не бредят уже
прошлогоднею тьмою.
«Позднее лето. Голубое поле капусты…»
Позднее лето. Голубое поле капусты.
Огнеопасный, покуда не вспыхнувший лес.
Брошенных велосипедов
не ветер ли крутит колеса?
Ох, а мы лезем и лезем
в Москва-реки серый отвес.
«Флот тонет в море. Пир – в вине…»
Флот тонет в море. Пир – в вине.
И все блаженнее Антоний.
И все божественнее Август.
И все незванней всякий гость.
И у привыкшей хохотать
от плача занемели плечи,
глаза, затекшие от плача,
таят свою златую злость.
Дождь перестал
и, опоздав,
ты все ж пришел
в замоскворецкий
июльский двор,
но нынче дождь,
навек, должно быть,
зарядил он.
21–24.11.77
Первая желтая прядь
в русалочьи волосы леса
впуталась. Впредь – только время
и срок его верный не вем.
Прядает ветер,
испуган неведомо кем,
жалко кривятся
стволы фонарей из железа,
и облетает с них свет
на рассвете совсем.
Член ИКП анкетный,
как гений богодан,
не понял он, что «captain»
не значит капитан
большого парохода
иль полковую вошь,
а значит: воевода —
великих браней вождь.
Трагического действа
весь смысл Шекспира в том,
что гения бездействия,
что Гамлета с брюшком,
что этого болвана
под славный звон мечей
«четыре капитана»
уносят в мир теней.
«Раз заходил ко мне сей правоверный еврей…»
Раз заходил ко мне сей правоверный еврей —
был он тогда математик, но ныне своей
вывезен в Лондон – английской своей половиной.
Не математик теперь он – истсайдский раввин он.
Зингера «Страсти» пришел он кошерно продать
(не разживешься, поди, в одночасье мильоном)
за подороже плюс двадцать процентов – он (мать…
он математиком был), хоть еврейским бульоном
залит был сборник и жирною грязью порос
(так мы узнали, что значит и впрямь chicken broth).
И очутившись в моей, как решил он, каморке,
снявши роскошную шапку, остался в ермолке.
В комнате он на Николу Угодника страсть
как… вопросительно глянул, – но лишь как на моду.
Библии же углядевши славянскую вязь,
рек он: «О, нет не вино вы здесь пьете, а воду».
Как мне хотелось ответить ему, что вино
их иудейское кончилось в Канне давно:
вода крещенья в вино обратилось причастья
(греческий он не постиг за отсутствьем пристрастья).
Спорить полезно лишь с единомышленником.
Вместе с деньгами я отдал раввину бесплатно
стихи для сборника, что составляла тайком
его жена – англичанка – ну, отдал и ладно,
но, сознаюсь, ненавистен мне был этот мой
«либерализм», хоть беззлобный, но слишком немой!
И удалился несбывшийся сей поединок —
только вода, что стекла с его снежных ботинок
стояла в комнате (просто вода, не вино),
я же глядел на нее, ведь еврей я отчасти,
видно молчанье отчаяньем мне суждено…
«Страсти» же Зингера мне полюбились до страсти.
«Сорока – запустенья птица…»
Сорока – запустенья птица —
о чем она кричит одна,
когда сыта и не боится?
Природа осенью больна,
у листьев пожелтели лица,
но снег просох в ночной траве,
и еж шуршит, когда клубится
в попрошлогодневшей листве.
«Пустыня. Люди в разных позах…»
Пустыня. Люди в разных позах
лежат: потерянный народ.
Заутра снова, словно посох,
песок змеится: вновь вперед.
И сколько лет сей сон кошмарный
не прерывается нигде:
песок мы называем манной,
привыкли к каменной воде.
На востоке тайной
именуют всю
видимость созданья,
мерзость и красу.
Что ж такое Майя,
а всего скорей —
НАИМЕНОВАНЬЯ
всех земных вещей.
«Тогда мы с милой жили, словно…»
Тогда мы с милой жили, словно
вожди – в душистом шалаше.
Текла под нами Воря сонно —
мы искупались в ней уже.
В ней слева мельница плескалась,
а справа, где реки излом —
ночами что-то зажигалось
в деревьях – сумасшедший дом.
А прямо – каменная веха
пустого ветхого села —
с конца XVI века
стояла церковь бел-бела.
Допреж ее – Тверска застава —
здесь был Микулин-городок,
и слева мельница, и справа
бездомный призраков приток.
…Мы ж в кружке с длинной ручкой – мерной
молочной кружке – на костре
варили кофе. Дождик мелкий
шуршал листвой о сентябре.
И дым костра к реки кувшинкам
сползал безветренно. Порой
интеллигентный мельник с шиком
дымил огромной бородой.
А тот студент из дома справа,
нас приютивший средь ветвей
орешника, давно, держава,
преуспевает в Ю-Эс-Эй.
Все было счастливо и странно:
река, дурдом и храм, и луг,
и то, что Рассела Бертрана
зачем-то мы читали вслух.
Сошлись деревья
во время оно
решить, кому же
царить меж ними.
И вот маслине
они глаголят:
«Цари, маслина,
над деревами».
«Довольно мне, —
говорит маслина, —
того, что люди
моим елеем
себя, царей и
богов венчают —
моя ль забота
ходить над вами».
Смоковнице
говорят деревья:
«Смоковница
да цари над нами».
Смоковница ж
им в ответ глаголет:
«Довольно сладости
в моих смоквах
царям и людям,
и божьим жертвам —
ее ль оставлю
ходить над вами?»
Тогда лозе
дерева глаголят:
«Цари меж нас,
лоза винограда».
Лоза ж златая
им отвечает:
«Покину ль я
то вино, что бродит
во мне, чтоб тешить
богов, царей ли —
покину ль хмель свой
ходить над вами?»
Тогда, отчаяв,
рекут деревья:
«Цари, терновник,
над деревами».
И отвечает
нагой терновник:
«Довольно ли
наготы и терний,
чтоб вам венчаться
моей сенью? —
А коли мало
моих уколов,
то выйдет огнь
из среды терновой,
как выходил он
пред Моисея,
испепелит
великаны кедры,
нагорны кедры,
красу Ливана».
Успокойся, дружище:
твоя совесть ПО-ЧИЩЕ,
башмаки по-дороже,
поджинсовей джинсы,
ты участливей слетов,
ты костлявее счетов…
Что мы делаем, Боже,
без него на Руси.
«Страшный Суд вверяя Богу…»
Страшный Суд вверяя Богу —
пусть со страху, сгоряча —
может быть, я с веком в ногу
и простил бы палача,
но не названы ни имя,
ни вина его черна —
от того и непростима
непростимая вина.
А истина? – а истина —
не лабиринт крота —
как нагота таинственна,
проста, как нагота —
она умом незрячим
окутывает нас,
мы ж прячем ее, прячем…
но как-то напоказ.
Снизойдя до нашей прозы
в тень отбрасывают тень
внеслужебные березы,
внеслужебная сирень,
и, обтянутые в ситцы
до мучных советских плеч,
внеслужебные девицы
движутся себе навстречь.
Сгорблена его душа,
обветшавший дух,
чуть ворча и чуть дыша,
туг на зренье, слух:
немотой обтянут рот,
взор – нагой оскал —
раз уж ты еще не мертв,
хорошо, что стар.
В январе полуодета
ах, весна, ты входишь в дом —
начинаешься со света
и кончаешься теплом.
В путь пора, пятак мой медный.
Солнце, тень свою не блазнь —
да минует нас бессмертной
ясности водобоязнь.
Крапива. Забор.
Задворки. Сарай.
Не пойман – не вор.
Не потерян – не рай.
Когда этот свет
не воротишь назад,
когда нет как нет
и когда рад не рад.
Зимы белый свет.
Беспутная высь.
Как волки – след в след —
и днесь, и надысь
идут глухо, слепо,
а оттепель слов:
посмертные слепки
застывших следов.
Любите самовлюбленных,
они-то вам не изменят
ни с ангелом, ни с бесом,
хоть век изменяют, но
сухими они выходят
постелей чужих из пены
и разлюбить им вряд ли
кого-нибудь суждено.