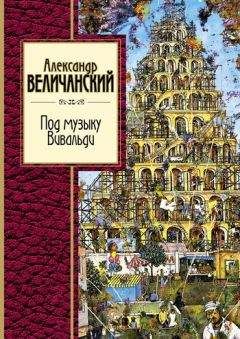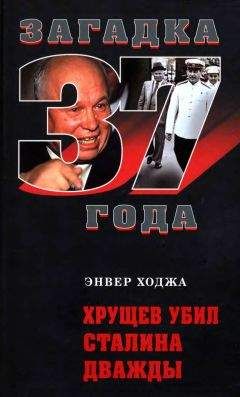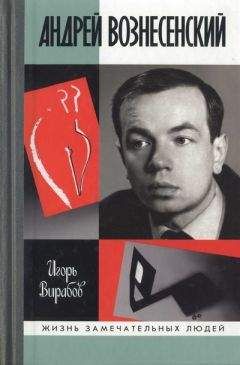«Будь же, речь моя, прощаньем…»
Будь же, речь моя, прощаньем,
горечью и облегченьем:
слова маленькая капля
падает – как камень с плеч.
Многоточье точек зренья —
звезд беспечных многоточье —
так молчанье обрывает
переполненную речь.
«Нет, не женщины, а звезды…»
Нет, не женщины, а звезды
породили нас. С родимой
пядью праха у любого
есть космическая связь:
если ты рожден в Алмати,
солнце ходит над Алмати,
месяц ходит над Алмати,
звезды кружат отродясь.
Звездочеты-книгочеи
говорят, что в миг зачатья
сочетаются не люди —
всех созвездий полумгла.
Стало быть в твоих объятьях —
вся вселенная – не тело
женское. Так выпьем, братья,
за небесные тела.
«Хоть в своем огромном небе…»
Хоть в своем огромном небе
гор хребет не коронован,
и никто не княжит ниже
над долиною вина,
но пейзаж настолько пышен,
обрамленный вышиною
гор, что без гипербол ясно:
это – царская страна.
«Труден сельский труд, как всякий…»
Труден сельский труд, как всякий
труд родной на свете труден —
заскорузли твои руки,
голова твоя седа —
но коль внятен, словно воздух,
труд, бессмыслицы лишенный,
то граничит труд с отрадой,
как с долиной гор гряда.
«Или полдень средь Алмати…»
Или полдень средь Алмати
на ногах стоит нетвердо?
Небеса ль не увлажняет
звезд красивая роса?
Иль от ртвели и до ртвели[23]
обмелели наши чаши?
Или мужеству невнятна
дев кровавая краса?
Тяжела и камениста
кладка стен в Алмати тесном:
камень к камню тяготеет,
камень к камню дико льнет —
дай нам, Боже, жить, как должно,
умереть, как подобает,
превратившись сокровенно
в край родной, в родной народ.
«В городе, где под асфальтом…»
В городе, где под асфальтом
не видать родного праха,
зарастает родовое
древо дикою корой,
но почтительны в деревне
к старикам, почти как к мертвым,
ибо без почтенья к предкам
мертв народ полуживой.
«Песнь грузинская: прекрасен…»
Песнь грузинская: прекрасен
лад ее многоголосья.
Если бы могли поладить
люди, слившись, как мотив.
Добрых вин букет грузинский:
если бы могли и люди
сделаться добрей, прозрачней,
как вино, перебродив.
«Красота, как пропасть, та, что…»
Красота, как пропасть, та, что
вечностью голубоватой
полнится, и небу трудно
различить ее черты:
смесь кромешного паденья
с самым горним порываньем —
красота и есть условность
безусловной красоты.
«Грузии издревней слава!..»
Грузии издревней слава!
Алазанским долам слава!
Славному Алмати слава! —
здесь в краю души нагой
славны мужи, славны девы,
коньяки и вина славны,
но всего славнее слава —
слава славе дорогой!
«Все сказал я, как казалось…»
Все сказал я, как казалось
глаз, души ли Зазеркалью,
не кривя сознаньем зыбким
ради слов. Алаверд́ы
к гулким сводам Алав́ерди
и к горам окрестным гулким,
к квеври гулкому, в котором
бродят речи тамады.
«Строгий переписчик Торы…»
(Строгий переписчик Торы
на пергаменте, что сразу
станет древним, завершая
труд свой, вправе оставлять
мал пробел для двух ли, трех ли
слов – пусть впишет их заказчик,
приобщась собственноручно
тебе, Божья благодать).
Светлой памяти В. Кормера
«Самые стихии изменились, как
в арфе звуки изменяют свой характер,
всегда оставаясь теми же звуками»
Премудрости Соломона 19, 17
Веруем мы без веры, за гранью вер.
«Не открой свово сердца всякому…»
Не открой свово сердца всякому,
не открой свово сердца некому,
не открой ты его никоему,
не открой ты его и сам себе.
То-то зима натекла:
ни холода, ни тепла,
ни тепла, ни холода,
ни коня, ни повода,
ни повода, ни узды,
ни постоя, ни езды,
ни езды, ни ездока —
лишь дорога глубока.
В войны последней
лихое время
своею смертью
никто не умер,
но все погибли —
герои, трусы —
и даже те,
кто в живых остался.
«Время, срок – и в этом суть…»
Время, срок – и в этом суть —
близок нам ВСЕГДА:
вечности бескрайний гимн —
краткие года —
пусть вода течет, «как суд»,
правда, «как поток»,
по щекам твоим нагим
в скомканный платок.
«Господи, отчего тиранов…»
Господи, отчего тиранов
сотворил Ты подобно людям —
т. е. им Твоего подобья
тоже толика перепала,
отчего, как Шекспир, не сделал
Ты тирана горбатым карлой,
колченогим, кривоколенным,
чтобы лик его безобразным
был, как мерзость и как проказа,
и как козни его тиранства,
отчего, как Шекспир, Ты дал им
дар чернейшего красноречья,
а порою, как тот же Уильям,
ум давал им, хоть безоглядный,
но ухватистый и глубокий,
словно прорва иль ров могильный?
А ведь мог бы, Господь, тирана
Ты дебилом наглядным сделать,
чтоб безмозглости ряской трусы
оправдали его злодейства.
«Леска микрорайонного края…»
Леска микрорайонного края
означились средь сумрака зевоты.
– Все ждешь, когда затеплится заря
Господняя? —
Ага. Всё жду. Но кто ты?
«Как пришла бодлива корова…»
Как пришла бодлива корова
к самому ли ко Господу Богу,
что рогов-то ей не дал, бодливой,
и мычит языком человечьим:
«Что ж Ты так надо мной наглумился —
уж трава-мурава мне не в голод,
уж вода ключева мне не в жажду,
уж и мык мне надойный не в муку,
уж телок мне ношенный не вношу,
рок не в рок мне, безрогой, без рог-то
рок не в рок мне и Бог мне не в Бога.
«Наша с соседом обитель (палата т. е.)…»
Наша с соседом обитель (палата т. е.)
всем хороша: свой душ и свой сортир есть,
и возвращаясь из них, сосед мой – свиток
необходимой бумаги с собой приносит
и заповедно ставит в изголовье,
занавес век иудейских не опуская
долу… Бывало так Катулл, вернувшись
утром с попойки иль с чужого ложа,
словно лампаду, ставил в изголовье
свиток стихов, у Лесбии отбитый.
«Могильщик крикнул не грубей…»
Могильщик крикнул не грубей,
чем принято, и враз
устало стая голубей
над кладбищем взвилась
тысячекрыло… будто бы
из всех земных застрех
в небесный промысел судьбы
земной поднялся снег.
И жизни вплоть, и смерти вплоть
век связывает нить…
Чтоб праха глиняный ломоть
над прахом преломить.
И нет империи окрест —
ни крыш, ни этажа —
друзья, ноябрьский резкий лес
прозрачный, как душа.
«Совсем вблизи она походит на…»
Совсем вблизи она походит на
ту предотъездную не суету пустую,
но пустоту, что тупо стеснена
в подвздошье где-то. И пока ты всуе
одно и то же тщишься в сотый раз
не позабыть – но что? – вот в чем загвоздка,
она стоит, как позабытый класс
на фотоснимке вкруг тебя подростка…
Вблизи она походит на пробел
в подспудной памяти иль в знании ответа…
Как будто «на дорожку» ты присел,
и нету сил подняться, Лизавета.
Понуро, обреченно
уходит навсегда
измученная черная
рожалая вода
из голубого пыла
в свой беспросветный прах,
и что же это было,
я не пойму никак.
Сначала меньше,
потом лучше,
но все кромешней
черная вода,
и ты опознан
в отражений гуще
сначала поздно,
после – никогда.
«Уж туч октябрьских толща…»
Уж туч октябрьских толща
полна ноябрьской мглой.
Неслышнее и тоньше
листвы истлевшей слой.
Просвет так мал у суток.
Почти исчезла суть
свечения, и в сумрак
души не заглянуть.
Как возродился все же
язычества мираж,
так возродиться, Боже,
Ты Своей вере дашь.
То рассветает, а не
смеркается впотьмах:
заря в своем тумане,
как Лазарь в пеленах.
«Человек – лишь состоянье…»
Человек – лишь состоянье,
а не сущность. Так и ты:
как сияло глаз сиянье,
как лучилися черты…
Не дай Бог, узнать нам скоро,
что таит души краса
в глубине колодца-взора,
за околицей лица.
«Лишь тонкой коркой сна…»