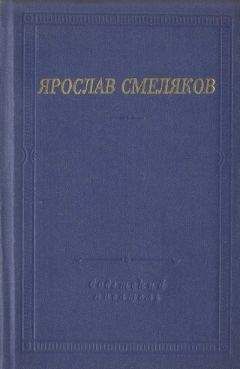42. «Ты всё молодишься. Всё хочешь…»
Ты всё молодишься. Всё хочешь
забыть, что к закату идешь:
где надо смеяться — хохочешь,
где можно заплакать — поешь.
Ты всё еще жаждешь обманом
себе и другим доказать,
что юности легким туманом
ничуть не устала дышать.
Найдешь ли свое избавленье,
уйдешь ли от боли своей
в давно надоевшем круженье,
в свечении праздных огней?
Ты мечешься, душу скрывая
и горькие мысли тая,
но я-то доподлинно знаю,
в чем кроется сущность твоя.
Но я-то отчетливо вижу,
что смысл недомолвок твоих
куда человечней и ближе
актерских повадок пустых.
Но я-то давно вдохновеньем
считать без упрека готов
морщинки твои — дуновенье
сошедших со сцены годов.
Пора уже маску позерства
на честную позу сменить.
Затем что довольно притворства
и правдою, трудной и черствой,
у нас полагается жить.
Глаза, устремленные жадно.
Часов механический бой.
То время шумит беспощадно
над бедной твоей головой.
1940
Померк за спиною вагонный пейзаж.
В сиянье лучей золотящих
заправлен автобус,
запрятан багаж
в пыльный багажный ящик.
Пошире теперь раскрывай глаза.
Здесь всё для тебя:
от земли до небес.
Справа — почти одни чудеса,
слева — никак не меньше чудес.
Ручьи,
виноградники,
петли дороги,
увитые снегом крутые отроги,
пустынные склоны,
отлогие скаты —
всё без исключения,
честное слово! —
частью — до отвращения лилово,
а частью — так себе, лиловато.
За поворотом — другой поворот.
Стоят деревья различных пород.
А мы вот — неутомимо,
сначала под солнцем,
потом в полумгле —
летим по кремнистой крымской земле,
стремнин и строений мимо.
И, как завершенье, внизу, в глубине,
под звездным небом апреля,
по берегу моря —
вечерних огней
рассыпанное ожерелье.
Никак не пойму, хоть велик интерес,
сущность явления:
вроде
звезды на землю сошли с небес,
а может —
огни в небеса уходят.
Меж дивных красот — оглушенный — качу,
да быстро приелась фантазия:
хочу от искусства, от жизни хочу
побольше разнообразия.
А впрочем — и так хорошо в Крыму:
апрельская ночь в голубом дыму,
гора — в ледяной короне.
Таким величием он велик,
что я бы совсем перед ним поник,
да выручила ирония.
1940
Красочна крымская красота.
В мире палитры богаче нету.
Такие встречаются здесь цвета,
что и названья не знаешь цвету.
Тихо скатясь с горы крутой,
день проплывет, освещая кущи:
красный,
оранжевый,
золотой,
синенький,
синеватый,
синющий.
У городских простояв крылец,
скроется вновь за грядою горной:
темнеющий,
темный,
и под конец —
абсолютно черный.
Но, в окруженье тюльпанов да роз,
я не покрылся забвенья ряской:
светлую дымку твоих волос
Крым никакой не закрасит краской.
Ночью — во сне, а днем — наяву,
вдруг расшумевшись и вдруг затихая,
тебя вспоминаю, тебя зову,
тебе пишу, о тебе вздыхаю.
Средь этаких круч я стал смелей,
я шире стал на таком просторе.
У ног моих
цвета любви моей —
плещет, ревет, замирает море.
1940
Я знал — деревья разные есть:
одно — согнется дугою;
не обхватить,
не встряхнуть,
не влезть —
растет до небес другое.
Я видел берез золотую вязь,
на кедры глядел — толково!
Но что б такое? Да отродясь
не видывал я такого.
Не кверху, а вдоль по стене идет
кривая серая линия,
нету на ней ни листочка —
вот
это и есть глициния.
Жмется к теплу,
ползет по стенам,
юлит возле самой двери —
так вот подлец бочком, постепенно,
к нам влезает в доверие.
Горы зовут за собою, ввысь:
«Стань, дорогой наш, выше».
А эта точится, как грязная мысль,
как подленькая мыслишка.
Когда отсюда уеду в Москву,
натянет она на себя листву,
цветочки навесит — рисуйте!
Но мне ее удалось разгадать,
я-то успел ее увидать
во всей обнаженной сути.
Я здесь гость.
А в таком положении,
пожалуй, ругаться не полагается.
Но очень противно, когда растение
и вдруг — ни с того ни с сего —
пресмыкается.
1940
Иное дерево схоже с мечтой,
иное — так себе, серое,
а это — черт его знает что,
но только никак не дерево.
Представьте себе:
обнаглев от жары,
раскинув веточки квелые,
растет оно безо всякой коры —
ну совершенно голое.
Прозванья так, зазря, не дадут.
Надев пиджачки да кители,
его бесстыдницей зовут
приличные местные жители.
Такое прозвище — острый нож,
вся жизнь с таким обрыднется.
Лишь я не имею претензий: что ж,
бесстыдница — так бесстыдница.
Стою перед ней с папиросой во рту.
Советов слушать не хочет,
а можно б занять — прикрыть наготу —
у фиги один листочек.
1940
Когда пароход начинает качать —
из-за домов, из мрака
выходит на берег поскучать
знакомая мне собака.
Где волны грозятся с земли стереть,
клубится пучина злая,
нечего, кажется, ей стеречь,
не на кого лаять.
Высокий вал,
пространство размерив,
растет,
в полете силу развив,
и вспять уходит, об каменный берег
морду свою разбив.
Уходит вал. Приходит другой,—
сидит собака — ни в зуб ногой.
Все люди ушли, однако
упорно сидит собака.
Закрыты подъезды. Выключен свет.
Лишь поздний пройдет гуляка.
Давно уже время домой.
Ан нет —
всё так же сидит собака.
Всё так же глядит на ревущий вал.
И я сознаться не трушу,
что в этой собаке предполагал
родственную мне душу.
Так, как ее, с недавней поры,
гудя, рокоча, звеня,
море вытаскивает из конуры
и тащит к себе меня.
Разве я знал, что брызги твои,
что черная эта вода
крепче вина, солоней любви,
сильней моего труда?
Темным-темно,
ревет, грубя.
Я здесь давно.
Я слышу тебя.
Пусть все уйдут,
пробив отбой.
Я здесь. Я тут.
Я рядом с тобой.
Меня одного тут тоска зажала.
Стою один —
ни огней,
ни звезд.
И даже собака, поджавши хвост,
стыдливой трусцою домой сбежала.
Так те, что твой обожают покой,
твое под солнцем мерцанье,
спокойно уедут.
И даже рукой
забудут махнуть на прощанье.
А полюбившие берег седой
и мерное волн рокотанье
водопроводной пресной водой
смоют воспоминанья.
Куда мне умчаться, себя кляня,
как мне о черной забыть волне,
если оно ворвалось в меня,
если клокочет оно во мне?
Куда ни направлю отсюда шаг,
в какую ни кинет меня полосу —
шум его унесу в ушах
и цвет его в глазах унесу.
Волна за волною ревет, крутясь,
а я один — уже столько лет! —
стою, устало облокотясь
на этот каменный парапет.
Будто от тела руку свою,
себя от него оторвать не могу.
Как одержимый, стою и стою
на залитом пеною берегу…
1940