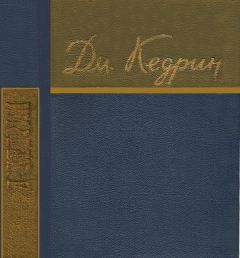Глава первая
По приказу — в порядке награды
за геройскую жизнь работяг —
получили четыре бригады,
как чертог, самолучший барак.
Всех приглядней, добротнее, выше,
и в морях городских огоньков
в десять труб он бушует над крышей,
в сорок окон пылает с боков.
А внутри — сухоребрые стены,
будто в бане настоенный жар,
и кипит день и ночь неизменный,
как на свадьбе, титан-самовар.
Как зажили мы сразу по-барски,
по ночам прогреваясь от стуж,
сто — украинских, русских, татарских —
околдованных городом душ.
Уж как справили мы новоселье,
голосисто — на трех языках,
да раскрыли у каждой постели
сундучки на висячих замках.
Каждый, будто хвалясь ненароком,
насовсем принимая жилье,
пригвоздил по-над стенкой, под боком,
все святое богатство свое:
веерок фотографий без рамок
с дорогой, ненаглядной родни,
в окружении огненных грамот,
заработанных в трудные дни.
И сияли они в нашем доме
вязью-прописью наших имен,
чистым золотом писанных домен,
вечным пламенем звезд и знамен.
На шаги отмеряя квартиру,
комендант, распорядок храня,
с уважением, как бригадиру,
красный угол отвел для меня.
Накупил я гвоздей на полтину
(чем я хуже хороших людей)
и раскрыл в том углу всю картину
незадачливой жизни своей.
Сверху — грамот бумажное пламя
так и пышет, аж сердце печет,
и на всех золотыми углами
припечатано слово «почет».
А пониже — на карточке мятой,
обгорелой, промокшей не раз,
батя мой — молодой, конопатый,
в дальнем детстве пропавший из глаз.
Будто, ныне почуявший силы,
с шашкой наголо, бравый на вид,
из далекой карпатской могилы,
как бессмертный, на сына глядит.
Возле — мамкин недавний портретик:
впрямь стараясь до слез не дышать,
на базарном присев табурете,
как на чудо, уставилась мать.
В давнем-давнем сарпинковом платье,
с детства памятном вдовьем платке,
как от боли к бессмысленной трате,
гомонок зажимая в руке:
пусть, мол, прахом пойдет та пятерка,
лишь бы кровный кормилец-сынок,
не торопкий на письма Егорка,
позабыть свою мамку не смог...
С ними рядышком, слева и справа,
красно солнышко глянцем двоя,
в два лица рассиялась Любава,
боровлянская милка моя.
Расцвела — ни на чью не похожа
и ничьей красоте не под стать,
что ни в сказке сказать невозможно,
ни железным пером описать...
Как, бывало, пойдем по базару,
все фотографы, сколь ни на есть,
просят сняться Любаву задаром,
красоту почитая как честь.
Вот и мне, не скупясь, чем богата,
в память самой первейшей любви
подарила Любава когда-то
четвертные портреты свои...
Слева смотрит — лукавая косо.
Справа смотрит — родная в упор.
Синеглаза, чудна, русокоса,
боровлянская вся до сих пор.
Словно вспыхнет горячая ранка
в самом сердце, когда в той дали
чуть увижу тебя, Боровлянка,
родный краешек отчей земли.
Там Тобол пузырится под кручей,
щучьи плесы, язевый простор,
и стоит на увале дремучий
с недорубленной просекой бор.
Стопудовые сосны из меди
даже в стужу цветут без простуд,
караулят малину медведи,
лисы тропки хвостами метут.
Там давнехонько в норке-избушке
хоронилась сама, как лиса,
да поймалась Кащею в подружки
Царь-девица, льняная коса.
Бабой стала толста и богата,
но сыны ее, внуки ее
знать не знали для кровного брата
слов милей, чем «твое» да «мое».
Там весь дол перекроен в полоски
и лежит, как рядно, полосат,
в бурых крапинах красноколоски,
в желчи проса да в дымках овса.
Там гнездится у самого яра
Боровлянка — смоленые лбы,
с керосинным настоем базара,
с хлебным духом у каждой избы.
Там истоптаны стежки-дорожки
в расписные, как терем, ларьки,
где звенят кренделя да сережки
и молчат топоры и замки.
Там в замшелой столетней церквушке,
полагая конец житию,
молят бога пробабки-старушки
о спокойном местечке в раю.
Видно, шибко завьюжило время,
всяк по-своему чует весну...
Даже деды там бороды бреют,
аж поземка метет седину.
Как земля, поколовшись от жданки,
ждет-пождет благовещенский гром,
с тайным трепетом ждет Боровлянка
по приметам судьбы перелом.
Там тревожат гудками в постели,
манят снами незнамо куда,
за поля, за леса, прямо к цели,
озаряя весь мир, города.
Как будильник, до самого света
отбивает часы каланча,
и стоит у крыльца сельсовета
белый камень с лицом Ильича.
Там полгода без письменной вести
каждый час меня матушка ждет
в родовом боровлянском поместье
с пятистенной избой без ворот.
По свидетельству тамошний житель,
там родился, дышал я и дрог,
поп Егор, боровлянский креститель,
за пятак меня тезкой нарек.
Там в соседях, за рытвиной лога,
ровней мне, но упряма и зла,
белобрыса, длинна, тонконога,
как опенок, девчонка росла.
Эту кралю с шипижным монистом
равнодушно я видеть не мог,
самострелом, разбойничьим свистом
ей житья не давал через лог.
Только бабы, назло мне, в отместку,
смеха ради, собравшись гурьбой,
величали девчонку невесткой,
сношкой нашей, моею судьбой...
Перед самым шестнадцатым летом
кончил я окончательный класс
и нанялся в писцы сельсовета,
вроде б в люди пробившись зараз...
...Разве вспомнишь сейчас по порядку,
как впервые за тысячу дней
не признал я свою супостатку,
как малец, обомлел перед ней.
Детство в прах разлетелось причудой,
будто в сердце пробили часы,
перед чудом самой крутогрудой,
налитой, скороспелой красы.
В гранях губ окаймилась оправа,
в глубях глаз народились огни...
И тогда попросил я: — Любава,
ни за что ты меня не вини...
В первый раз перед силой такою
невзначай угорев наповал,
не знавал я ни сна, ни покоя,
всех девчонок Любавами звал.
Никакой материнской управы
с той поры не терпя над собой,
как я хаживал возле Любавы,
за Любаву готовый хоть в бой.
Будто воздуху мне не хватало,
вдоль проулков шатались дома,
если вдруг не меня пригревала
талым взором Любава сама.
...Красота не бывает без славы.
И горластые, как петухи,
полетели к воротам Любавы
на гнедых рысаках женихи.
Многоженцы — вдовцы да расстриги,
в черных френчах, в сиянье сапог,
чьим папашам в подворные книги
зачислял я кулацкий налог.
Все Любаве колечки дарили,
ленты в прошвах, сатин голубой.
Свахи в душу к ней тропки торили,
выхваляя судьбу вперебой.
Дескать, жить ей в шелках, а не в ситце,
наживать не сухотку, а спесь,
да не хлебушком черным давиться,
а крупчатные шанежки есть.
А на масленке в пьяном оскале,
хлопья пены роняя вокруг,
мне на горе все тройки скакали,
умыкая Любаву из рук.
Как на спор, по хозяйскому праву,
встала вся боровлянская знать,
чтоб отбить мою милку Любаву,
под Кащееву лапу прибрать.
С лютой ревностью, с болью, с тревогой
я Любаву просил напрямки:
— Стань, Любава, хоть раз недотрогой
для чужой, нелюбимой руки...
То хохочет Любава, то злится:
— Покажи свою силу, Егор.
Посади ты меня, как жар-птицу,
за дубовые стены, в затвор!
Прямо в пасть женихам-боровлянам,
на вечерки, по горницам их,
шел я проклятым гостем незваным,
за Любавой, как главный жених.
Ухмыляясь, хозяева молча
самогон подавали в ковшах,
но со взгляда, косого по-волчьи,
не спускали меня ни на шаг.
Сколько ран — ножевых, не иначе —
да рубах, перемазанных в кровь,
износил я на теле горячем
за Любавину птичью любовь.
Быть бы мертвым мне или калекой,
но дедок мой, хотя коновал,
со своей лошадиной аптекой
ради внука кобыл забывал.
Снова жил я, бинтами спеленат,
и смеялась Любава навзрыд,
что любовь наша в реках не тонет,
на горючих кострах не горит...
То ли с жалостью, то ли с любовью,
по-соседски, ложком, без оград,
три раза к моему изголовью
приходила Любава подряд.
Трижды солнце взошло из-за бора...
От страдания, бреда, жары
охраняла Любава Егора
на манер милосердной сестры.
Крепким чаем мальчишку поила,
над мальчишкою груди клоня,
на гулянки три дня не ходила,
женихов не видала три дня...
На четвертый денек спозаранку
про Любавину честь во весь рот
зашипела змеей Боровлянка
возле мазанных дегтем ворот.
Сами свахи протопали боком
мимо дома, ворча про грехи,
и, кружа у Любавиных окон,
перемигивались женихи.
Пусть, мол, помнит заместо науки
эта девка, ничья до сих пор,
женихов своих цепкие руки,
дегтем писанный их приговор...
Будто мор в этом доме крестовом,
ставни наглухо, крюк на двери,
только плач проголосный, со стоном,
похоронный, Любавин внутри.
Как недужный, в бреду ли, со злобы,
все крюки посшибав, напролом,
я пробился босой, гололобый,
в тот, Любавой оплаканный, дом,
принося будто клятву-поруку
в молодой своей, битой любви:
— Слышь, Любава! Кончай свою муку.
В нашу избу ступай и живи...
И глядела Любава в глаза мне
боровлянским неласковым днем,
дочиста не обмытом слезами,
с черным ставнем за каждым окном.
И сказала Любава мне прямо:
— Отступись ты, Егор, от меня!
Не спасать тебе девок от срама,
ни ворот у тебя, ни коня.
Как нам жить под единою крышей?
Будто ты настоящий мужик...
В женихи ты достатком не вышел,
совершенных годов не достиг...
...Словно вспыхнет горячая ранка
в самом сердце, когда в той дали,
чуть увижу тебя, Боровлянка,
родный краешек отчей земли.
В Боровлянке, как гнездышко, малой,
в черный год начиная свой век,
выжил я, мужичок неудалый,
не обученный жить человек.
Хоть к чему бы я сердцем ни рвался,
хоть какой бы ни задал вопрос,
хоть за что бы руками ни взялся:
«Отступись...- говорят.- Не дорос!..»
Коли сроду удачей обижен,
ни в каком мастерстве не велик,
вроде б ростом ты с виду пониже,
слаб умишком, обличием дик.
Жить на свете, выходит, не просто,
и пока, для людей словно груз,
я ходил по земле, как подросток,
ростом с дверь, головою с арбуз.
И когда на объект перемычки,
с топором или тачкой в руках,
я ходил, как большой, по привычке
тряс поджилки мне заячий страх:
вдруг да к зорьке не выполню плана,
от одышки свалюсь на ходу,
прослыву у людей за болвана,
всю бригаду, как враг, подведу.
Но на штурмах бетонного века,
досыта заработав на хлеб,
понял сам, что и я не калека,
костью крепок и сердцем окреп.
Пусть дымилась на теле рубаха,
кровь по жилам бросалась в разбег,
наторел я работать без страха,
ради чести, за трех человек.
Ну какие орлиные крылья
крепче здешней, магнитной земли
отлучили б меня от бессилья,
от себя самого унесли!
Чем-то всяк здесь становится краше,
а заместо «твое» да «мое»
чаще слышно по-здешнему «наше»:
наше слово и наше житье,
баня наша, столовая наша,
наши планы, строительство, цех,
если к ужину пшенная каша,
так уж, будьте спокойны, на всех.
Будто в праздник, для всех без талона,
все становится нашим сполна:
наше солнышко, наши знамена,
город наш и Россия-страна.
Бороды для почтенья не надо,
всяк по своему нраву любим...
Вот меня полюбила бригада —
назвала бригадиром своим.
Пусть покамест душа беспартийна,
но, ценя эту душу за труд,
коммунисты считают за сына,
комсомольцы братишкой зовут.
В цехе доменном, словно бы дома,
я с прорабом не ссорюсь пока...
Вот ввели меня в члены цехкома,
для меня это — то же Цека!
Сам нарком, на глазах у народа,
лично глядя мне прямо в глаза,
за железный бетон для завода
всей бригаде спасибо сказал.
Весь Урал извещая об этом,
фото в четверть, в полметра статью
напечатала наша газета
про меня и бригаду мою.
Там, как рота, за мной, бригадиром,
вся бригада идет на аврал!
...Я читал ту газету до дырок,
а потом в Боровлянку послал.
Пусть чуточек поплачет родная
(ей и радость не в радость без слез)
хоть над тем, что, как в битву шагая,
сын до жизни геройской дорос.
Пусть посмотрит невеста Любава
и ответит мне, зла не тая,
чем краса ее, девичья слава,
драгоценней, чем слава моя.
Пусть на вид не удался красивым,
в силу чистых достатков своих,
может быть, я теперь по России
первый парень и первый жених.