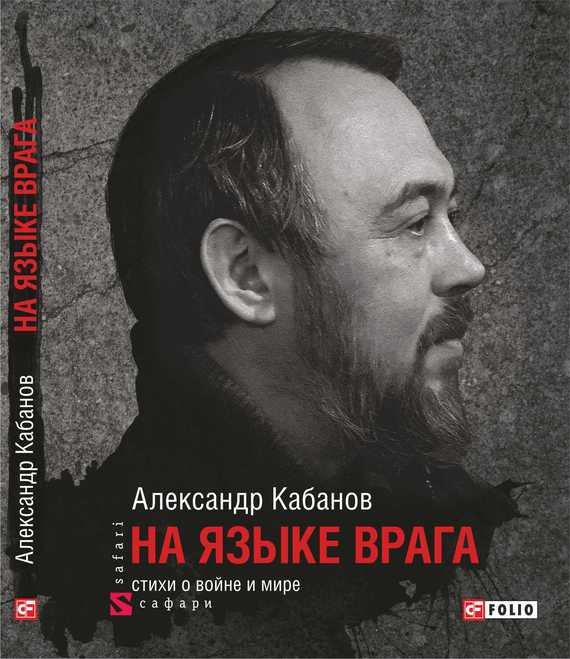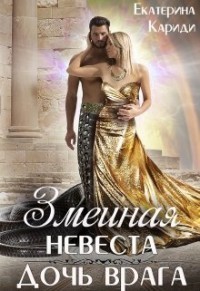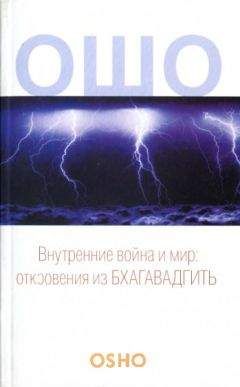Александр Кабанов (р. 1968 году в городе Херсоне) – украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.
Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Его стихи переведены на финский, сербский, польский, грузинский и др. языки.
Александр Кабанов – главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.
«На языке врага: стихи о войне и мире» – одиннадцатая книга Александра Кабанова. В нее вошли новые стихотворения, написанные в 2014–2017 гг., а также избранные тексты из сборника «Волхвы в планетарии» (вышла в издательстве «Фолио» в 2014 г.).
Ключевой смыслообразующий тезис новой книги поэта: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди…»
Кроме сборника «Волхвы в планетарии», в издательстве «Фолио» были изданы книги «Весь» (2008) и «Happy бездна to you» (2011).
class="v">Чем питаются? Крупой небесной манны,
сдобным снегом, виноградом из нирваны.
Иногда они спускаются на землю,
чтоб нагрянуть в гости к Стивену и Кингу,
или в жертву принести морскую свинку —
лично я обряды эти не приемлю.
У меня иные принципы и квоты,
я – по внутренностям памяти – оракул,
хорькопланы, дельтаскунсы, бобролёты,
этот почерк называется – каракуль.
На Подоле осыпаются каштаны,
как последние колючие минуты:
это – почерк, это – аэротушканы
раскрывают запасные парашюты.
«Памятник взмахнул казацкой саблей…»
Памятник взмахнул казацкой саблей —
брызнул свет на сбрую и камзол,
огурцы рекламных дирижаблей
поднимались в утренний рассол.
На сносях кудахтает бульдозер —
заскрипел и покачнулся дом,
воздух пахнет озером, и осень —
стенобитным балует ядром.
Дом снесен, старинные хоромы,
где паркет от сырости зернист,
дом снесен, и в приступе истомы,
яйца почесал бульдозерист.
Чувствуя во всем переизбыток
пустоты и хамского житья —
этот мир, распущенный до ниток,
требует не кройки, а шитья.
Целый вечер посреди развалин
будущей развалиной брожу,
и ущерб, согласен, минимален,
сколько будет радостей бомжу.
Дом снесли, а погреб позабыли
завалить, и этот бомж извлек —
город Киев, под покровом пыли
спрятанный в стеклянный бутылек.
«Хотел бы я чувствовать, не понимая…»
Хотел бы я чувствовать, не понимая:
как чувствует кошка моя,
как чувствует мальчик из племени майя
зазубренный край бытия.
Озябший кузнечик прижмется к трамваю,
и уксус полюбит вино,
как жаль, что – я чувствую и понимаю:
что – этого мне не дано.
Помню, что я разводил мосты —
дерзкий, как Брюс Уиллис,
только мосты были – холосты,
вот и не разводились.
Там, на часовнях росли кусты —
ближе к небесным кронам,
только питались они в посты
лишь колокольным звоном.
Но, иногда, високосным днем —
лысым, как Брюс Уиллис,
эти кусты, под грибным дождем,
с нами – грибы курили-с.
День, запинаясь, винил винил,
эти кусты – физалис:
если бы колокол не звонил —
жили б, не умирали-с.
«Жареная селедка чертит огненный круг…»
Жареная селедка чертит огненный круг,
приоткрывает глаза и прозносит: «Амен…»,
что же ты пригорюнился, мой косоглазый друг,
да, эта жизнь – общага, снег завалил экзамен.
Кроличья шапка-ушанка, ради нее одной —
можно учиться в киевском универе,
жареная селедка – это Ханой-Ханой,
нас окружают мертвые рыбы и звери —
сбрызнут лимонным соком и завернут в фольгу,
вновь отшумел Меконг в туалете дамском,
труп твоего врага сидит и курит на берегу,
жареная селедка молится на вьетнамском.
«Соединялись пролетарии…»
Соединялись пролетарии,
и пролетали истребители,
волхвы скучали в планетарии,
и ссорились мои родители.
И все на свете было рядышком:
детсад, завод после аварии,
тюрьма, и снег в чернильных пятнышках —
прям из небесной канцелярии,
военкомат от кавалерии,
погост, а дальше – снег кончается,
лепили далматинцев, верили,
что жизнь собачья получается.
И мы осваивали стенопись:
знак равенства в любви неправильный,
а дальше – нежность или ненависть,
и мой сырок со мною плавленый.
И тогда прилетела ко мне Жар-кошка:
покурить, застучать коготком окошко,
обменяться книгами, выпить граппы,
и вставало солнце на обе лапы.
Вот струя из брандспойта, шипя и пенясь,
разбудила вкусную рыбу-Феникс:
у нее орхидеи растут из пасти,
заливные крылья – в томатной пасте.
Двадцать лет возвращалась жена в Итаку —
я обнял ее, как свою собаку,
и звенела во мне тетивой разлука,
без вопроса: а с кем ты гуляла, сука?
«Чтоб не свернулся в трубочку прибой…»
Чтоб не свернулся в трубочку прибой —
его прижали по краям холмами,
и доски для виндсерфинга несут
перед собой, как древние скрижали.
Отряхивая водорослей прах,
не обьясняй лингвистке из Можайска:
о чем щебечет Боженька в кустах —
плодись и размножайся.
Отведай виноградный эликсир,
который в здешних сумерках бухают,
и выбирай: «Рамштайн» или Шекспир —
сегодня отдыхают.
Еще бредет по набережной тролль
в турецких шортах, с черным ноутбуком,
уже введен санэпидемконтроль —
над солнцем и над звуком.
Не потому, что этот мир жесток
под небом из бесплатного вайфая:
Господь поет, как птица свой шесток —
людей не покидая.
«Когда исчезнет слово естества…»
Когда исчезнет слово естества:
врастая намертво – не шелестит листва,
и падкая – не утешает слива,
и ты, рожденный в эпицентре взрыва —
упрятан в соль и порох воровства.
Вот, над тобой нависли абрикосы,
и вишни, чьи плоды – бескрылые стрекозы:
как музыка – возвышен этот сад,
и яд, неотличимый от глюкозы —
свернулся в кровь и вырубил айпад.
Никто не потревожит сей уклад —
архаику, империи закат,
консервный ключ – не отворит кавычки,
уволен сторож, не щебечут