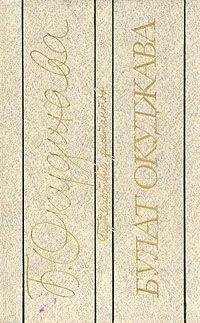Перед витриной
Вот дурацкий манекен, расточающий улыбки.
Я гляжу через стекло. Он глядит поверх меня.
У него большая жизнь, у меня ж — одни ошибки…
Дайте мне хоть передышку и крылатого коня!
У него такой успех! Мне подобное не снится.
Вокруг барышни толпятся, и милиция свистит.
У него — почти что всё, он — почти что заграница,
а с меня ведь время спросит и, конечно, не простит.
Мой отец погиб в тюрьме. Мама долго просидела.
Я сражался на войне, потому что верил в сны.
Жизнь меня не берегла и шпыняла то и дело.
Может, я бы стал поэтом, если б не было войны.
У меня медаль в столе. Я почти что был героем.
Манекены без медалей, а одеты хоть куда.
Я солдатом спину гнул, а они не ходят строем,
улыбаются вальяжно, как большие господа.
Правда, я еще могу ничему не удивляться,
выпить кружечку, другую, подскользнуться на бегу.
Манекены же должны днем и ночью улыбаться
и не могут удержаться. Никогда. А я могу.
Так чего же я стою перед этою витриной
и, открывши рот, смотрю на дурацкий силуэт.
Впрочем, мне держать ответ и туда идти с повинной,
где кончается дорога… А с него и спросу нет.
«Поверь мне, Агнешка, грядут перемены…»
Поверь мне, Агнешка, грядут перемены…
Так я написал тебе в прежние дни.
Я знал и тогда, что они непременны,
лишь ручку свою ты до них дотяни.
А если не так, для чего ж мы сгораем?
Так, значит, свершится всё то, что хотим?
Да, всё совершится, чего мы желаем,
оно совершится, да мы улетим.
«Погода что-то портится…»
Погода что-то портится,
тусклее как-то свет.
Во что-то верить хочется,
да образцов всё нет.
«Мне русские милы из давней прозы…»
Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень, и смех, и слезы,
и горечь на устах.
Когда они сидят на кухне старой
во власти странных дум,
их горький век, подзвученный гитарой,
насмешлив и угрюм.
Когда толпа внизу кричит и стонет,
что — гордый ум и честь?
Их мало так, что ничего не стоит
по пальцам перечесть.
Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж…
Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном — пейзаж?
Что ж, век иной. Развеяны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть — всё скифы, скифы.
Их тьмы, и тьмы, и тьмы.
И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба.
И кажется, что русских вовсе нету,
а вместо них толпа.
Я знаю этот мир не понаслышке:
я из него пророс,
но за его утраты и излишки
с меня сегодня спрос.
«Поверившие в сны крамольные…»
Поверившие в сны крамольные,
владельцы злата и оков,
наверно, что-то проворонили
во тьме растаявших веков.
И как узнать, что там за окнами?
Какой у времени расчет?..
Лишь дрожь в душе, и плечи согнуты,
и слезы едкие — со щек.
Но эти поздние рыдания
нас убеждают неспроста,
что вечный мир спасут страдания,
а не любовь и красота.
«Малиновка свистнет и тут же замрет…»
Малиновка свистнет и тут же замрет,
как будто я должен без слов догадаться,
что значит всё это и что меня ждет,
куда мне идти и чего мне бояться.
Напрасных надежд долгожданный канун.
Березовый лист на лету бронзовеет.
Уж поздно. Никто никого не заменит…
Лишь долгое эхо оборванных струн.
Памяти Ольги Окуджава
и Галактиона Табидзе
Тетя Оля, ты — уже история:
нет тебя — ты только лишь была.
Вот твоя ромашка, та, которая
из твоей могилки проросла.
Вот поэт, тогда тебя любивший,
муж хмельной — небесное дитя,
сам былой, из той печали бывшей,
из того свинцового житья.
А на фото свадебном, на тусклом,
ты еще не знаешь ничего:
ни про пулю меж Орлом и Курском,
ни про слезы тайные его.
Вот и восседаешь рядом тихо
у нестрашных, у входных дверей,
словно маленькая олениха,
не слыхавшая про егерей.
С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга.
Бричка вместительна. Лошади в масть.
Жизнь моя, как перезревшее яблоко,
тянется к теплой землице припасть.
Ну а попутчик мой, этот молоденький,
радостных слёз не стирает с лица.
Что ему думать про век свой коротенький?
Он лишь про музыку, чтоб до конца.
Времени не останется на проводы…
Да неужели уже не нужны
слёзы, что были недаром ведь пролиты,
крылья, что были не зря ведь даны?
Ну а попутчик мой ручкою нервною
машет и машет фортуне своей,
нотку одну лишь нащупает верную —
и заливается, как соловей.
Руки мои на коленях покоятся,
вздох безнадежный густеет в груди:
там, за спиной — «До свиданья, околица!»…
И ничего, ничего впереди.
Ну а попутчик мой, божеской выпечки,
не покладая стараний своих,
то он на флейточке, то он на скрипочке,
то на валторне поет за двоих.
«Мгновенна нашей жизни повесть…»
Мгновенна нашей жизни повесть,
такой короткий промежуток, —
шажок, и мы уже не те…
Но совесть, совесть, совесть, совесть
в любом отрезке наших суток
должна храниться в чистоте.
За это, что ни говорите,
чтоб всё сложилось справедливо,
как суждено, от А до Я,
платите, милые, платите
без громких слов и без надрыва,
по воле страстного порыва,
ни слёз, ни сердца не тая.
«Вымирает мое поколение…»
Вымирает мое поколение,
собралось у двери проходной.
То ли нету уже вдохновения,
то ли нету надежд. Ни одной.
В старинном зеркале стенном, потрескавшемся,
тускловатом,
хлебнувший всякого с лихвой, я выгляжу аристократом
и млею, и горжусь собою, и с укоризною гляжу
на соплеменников ничтожных — сожителей по этажу.
Какие жалкие у них телодвижения и лица!
Не то, что гордый профиль мой, достойный
с вечностию слиться.
Какие подлые повадки и ухищрения у них!
Не то, что зов фортуны сладкий и торжество
надежд моих.
Знать, высший смысл в моей судьбе златые
предсказали трубы…
Вот так я мыслю о себе, надменно поджимая губы,
и так с надеждою слепою в стекло туманное гляжусь,
пока холопской пятернею к щеке своей не прикоснусь.
Ехал всадник на коне.
Артиллерия орала.
Танк стрелял. Душа сгорала.
Виселица на гумне…
Иллюстрация к войне.
Я, конечно, не помру:
ты мне раны перевяжешь,
слово ласковое скажешь…
Всё затянется к утру…
Иллюстрация к добру.
Мир замешен на крови.
Это наш последний берег.
Может, кто и не поверит —
ниточку не оборви…
Иллюстрация к любви.
«Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает…»
Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает.
А потом вдруг как заплачет, песню выплеснув в окно.
Ничего дурного в том: в жизни всякое бывает —
то смешно, а то и грустно, то светло, а то темно.
Так за что ж его тогда не любили наши власти?
За российские ли страсти? За корейские ль глаза?
Может быть, его считали иудеем? Вот так здрасьте!
Может, чудились им в песнях диссидентов голоса?
Страхи прежние в былом. Вот он плачет и смеется,
и рассказывает людям, кто мы есть и кто он сам.
Впрочем, помнит он всегда, что веревочка-то вьется…
Это видно по усмешке, по походке, по глазам.