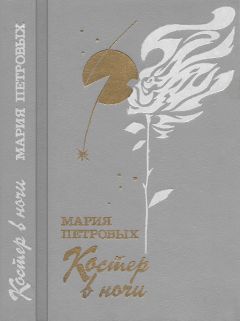Владислав Броневский (1897–1962)
Над тихой водою лазурной
небо лазурное тихо,
но ветер ворвался бурный
зелено, молодо, лихо.
Ты откуда — шальной, зеленый,
над какими летал лесами?
Еще в росах калины и клены,
а глаза еще полны слезами.
Устоялось вешнее вёдро,
Воздух золотом солнца светел.
Зелено, молодо, бодро,
сердце, лети, как ветер!
Светом и шумом зеленым
низвергайся, радость живая!..
Вешним калинам и кленам,
тебе и себе напеваю.
Мелькнула птица, бросив тень
на окно, где свет царит дневной…
И вот опять — простор весенний
и высь бездонна надо мной!
А зелень! Пропадешь в зеленом
пространстве трав, деревьев, лоз!
Идти, родная, далеко нам
сквозь шелест кленов и берез.
Нам жить да жить в земном свеченье.
Полжизни, правда, не вернешь…
Вот птица полосою тени
мелькнула с криком… Ну и что ж…
По снегу, что выпал впервые,
белый день босиком пляшет;
кудри рассыпал ржаные,
шляпой соломенной машет.
Пламя пробрало солому
розово, зеленовато, лилово…
Счастья — дню золотому!
Славься, огнеголовый!
Под небом, ясным по-детски,
за горою скрылась устало
громада света и блеска
и на землю тенью упала.
Константы Ильдефонс Галчинский (1905–1953)
Дочери Кире и Анджею Ставару
Доченька, спи. Ночь приближается мерно,
Полным составом нот тишину дробя.
Если прислушаться, в этой ночи, наверно,
Отыщется что-то и для тебя:
Месяц и улочка, что, забирая правей,
Сворачивает в мирозданье,
И ветер для легких твоих кудрей,
И тень для щеки твоей,
И для сердца — страданье.
1947
Во мгле дубовой кроны
уселись две вороны,
а воздух весь блистает;
томит ворон дремота,
летать им неохота,
снежком их засыпает.
Ни ручеек привычный,
ни городок фабричный
им не сулят урону;
сидят вороны рядом,
глядят безумным взглядом —
ворона на ворону.
Коль в ноты превратить их —
четыре струнных нити
звучали б над простором,
а так — во славу воронам
в оцепенении сонном —
in saecula saeculorum[2].
Небо в искристых звездах,
голубеющий воздух,
ночь, вихрь — воронам укрытье.
Спи, ручей нежурчащий,
доброй ночи вам, чащи,
вороны, спите!
1952
Ведь не удастся выразить все это…
Ведь не удастся выразить все это…
Шум за стеною записать хотя бы!
Дождь? или поезд? ишь шаги по тротуару?
Льет слабый свет извозчичий фонарик,
к стене прибитый странно…
И голубь глиняный, щегленок деревянный,
и рыцарь наш XVII-вековый на лошади
XV века…
1953
Витезслав Незвал (1900–1958)
Над ручейком, в тени скирды,
Уснула жница в полдень знойный,
И василек в руке спокойной
Чуть-чуть касается воды.
Бегущих туч живые тени
И плеск волны уходят в сон,
А солнце жжет прибрежный склон
И обнаженные колени.
Уснула на комлях колючих
Земли, распаханной под пар…
Ах, если бы свой жгучий жар
Отдать ей в поцелуях жгучих!
Но спит она, а я уж стар,
Да и усы мои жестки,
Как в свежих копнах колоски.
И снова — Елисейские поля.
И, как в мои студенческие годы,
здесь распевают птицы, веселя
сердца людские щедростью свободы.
И мне бы так — лишь радость пробуждать
и просветленным быть, как день весенний,
Я слышу птичьи дудочки опять,
и хорошо мне, как на свежем сене.
Над Сеной — пароходные гудки…
Слежу, как воробьи-озорники
беспечных мошек ловят близ дорожки.
И чтобы чудо завершить вполне,
лукавый месяц заблестел в волне
и над бульваром выставляет рожки.
Грушу ль, увидав этот город дивный
без вас, дорогие друзья?
Высплюсь — и путь позабуду длинный,
и вновь буду весел я.
Грущу ли, тебя, отец, вспоминая
и мать? Или я, чудак,
грущу, а по ком — хоть убей не знаю.
Взгрустнулось мне просто так.
Элисавета Багряна (1893–1991)
О, как сейчас весна невыносима!
Звенит капель, домой вернулись птицы,
и солнце блещет, пересилив зиму,
а он лежит, навек смежив ресницы.
Он дома, он еще с тобою рядом.
Лишь словом, только что произнесенным,
ты дышишь и последним долгим взглядом,
последней ласкою, последним стоном.
Ты помнишь, как с любым твоим несчастьем
боролся он, чтоб слезы осушила.
Ну что ж, рыдай, взывай, кидайся наземь, —
он безучастен, холоден, твой милый.
Хотя бы солнце вдруг погасло, что ли!
Ты хочешь уничтожить все стихии,
но лишь покачиваешься от боли,
и горе жжет глаза твои сухие.
Покорность? Или мудрое прозренье?
Иль я сама мертва с моей тоскою?
А может быть, таится в примиренье
последнее отчаянье людское?
Ты одинокой, вольной быть хотела,—
чтоб ни друзей, ни дома, ни тепла,
чтоб вместе с ветром через все пределы
ты безоглядно по земле прошла.
Хотела ты с вершины поднебесной
увидеть мир, хотела поскорей
всей грудью пить знобящий воздух бездны,
дыхание невиданных людей.
Хотела ты, чтоб жизнь мечтой светила,
чтоб родиной — весь мир, весь белый свет!
Но жизнь, мечту и мир ты воплотила
в любимые глаза, меняющие цвет.
Атанас Далчев (1904–1978)
Рассвет блеснул, и день начавшийся
прокукарекал во дворе,
и где-то шумно отворилась
и шумно затворилась дверь;
поспешно мухи зажужжали,
едва проснулись на заре,
и все, что мне приснилось ночью,
я вспомнить силился теперь.
Потом пошел бродить по улицам
среди загадок и чудес;
один шатался я и к вечеру
забрел неведомо куда.
Вслух на ходу читал я вывески,
а в дождь, забравшись под навес,
следил, как рельсами трамвайными
бежит проворная вода.
Я шел, не глядя на витрины,
в шагах мне чудился мотив,
слова сплетались в ритмы длинные,
необычайны и легки,
а мне вослед смеялись девушки,
меня глазами проводив, —
смешила их моя рассеянность,
моя походка и очки.
И дома вечером казалось мне,
что корка черствая вкусна
и что мягка подстилка жесткая,
и я ложился не впотьмах —
одна светилась лампа в комнате
и две — в двойном стекле окна,
и, чтобы видеть сны отчетливей,
я часто засыпал в очках.
1925