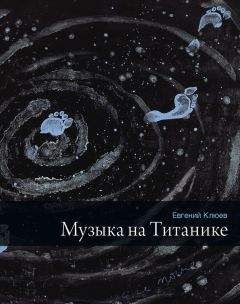При царе Горохе
…а вот разрухи при царе Горохе
совсем не помню, разные огрехи —
это пожалуйста, шуты и скоморохи
свидетели, всё было, но разрухи —
её не помню при царе Горохе —
ходили, правда, всяческие слухи,
мол, ждут нас в будущем измены да подвохи,
пришельцы, трёхголовые телята,
огонь кометы на исходе лета…
короче, что всё будет очень люто
и будет падать замертво валюта
в болото лебединого балета —
так щебетали птахи и старухи,
воспитанные при царе Горохе,
и улетали на свои застрехи,
и все им верили, и всех терзали страхи…
случайность, нарядясь в необходимость,
смущала и запутывала демос,
над головой носился Нострадамус
и гадил сверху, из другой эпохи…
дела, конечно, были очень плохи,
ан не настолько, чтоб пищало в брюхе
от голода – шуты и скоморохи
свидетели, что при царе Горохе
мы все ни в коем случае не злату
молились, не булату, но билету
в Большой, а если даже и булату,
так не тому… – божественному плуту,
купившему за небольшую плату
всех сразу на единственную ноту,
известную ему, но этой крохи
вполне хватало при царе Горохе
и даже оставалось на орехи —
нет, даже доставалось на орехи,
не помню, да и сам язык был младше…
чуть младше – нет, не хуже или лучше,
а раньше, и, как выяснялось, тоньше,
без мата, и у каждой почтальонши,
да что там почтальонши – кастелянши,
за нею раз пятнадцать повторимши,
вполне спокойно можно было брать уроки
культуры речи при царе Горохе —
культуры речи и культуры встречи,
не говоря уж о культуре первой ночи,
или культуре вечности… короче,
культуры думать так, а не иначе,
не замечая нависавшей тучи —
их было много при царе Горохе,
и все темны, шуты и скоморохи
свидетели, что часто моросило,
поштормливало, уносило силы,
ломало страшно, но, попив рассола,
все снова поддавались на посулы
судьбы-обманщицы, сухарики и сало
на завтра запасая, а сивухи
всегда хватало при царе Горохе —
да и куда же без неё, дурёхи,
дурёхи, сватьи-бабы Бабарихи…
и вот что странно: сердце в общей суматохе
не било, так чтоб очень уж, тревоги —
Бог не тревожил, но имелись боги:
бог ветчины, севрюги и наваги,
бог мини-юбки, джинсов, буги-вуги,
бог дачи в Кратове, Малаховке, Барвихе,
и виден был на свет в любой прорехе
не тот, так этот бог… при каждом взмахе
полотнища в столбе пурпурной пыли
порхали группы ангелов и плыли
над нами, находясь не то в запале,
не то в опале – подо всех копали,
включая ангелов, и те же заварухи
происходили при царе Горохе,
что и теперь, шуты и скоморохи
свидетели, что все мы, как проказы,
боялись разных козней – и, как козы,
неслись вперёд, не думая о крахе,
притом что, в общем, при царе Горохе
известны дальновидные указы,
и, слава Богу, не было разрухи,
подобной нынешней…
шуты и скоморохи
свидетели.
И дети.
И стрекозы.
Так сильно небесные пушки палят,
как будто немецкие пушки палят, —
не бойся, дитя, это просто салют,
огней бесполезный полёт.
Не бойся, дитя, никого не убьют,
уют создают… понимаешь, уют:
уют создают – и палят, и поют,
палят, и палят, и поют.
А если случайно кого и убьют,
то это не страшно: он сам виноват,
не понял, что всё это просто салют,
огней бесполезный полёт,
что всё это к новому счастью прелюд,
что все вокруг были несчастны сто лет,
но после купили себе арбалет
и пушку, и в небо палят.
Не бойся, дитя, они просто шалят —
шалят и сбивают с небес самолёт,
шалят и сбивают с небес драндулет,
в котором сидит Абсолют…
Но всё это так, они просто шалят,
и звёздною пылью пылят, и поют —
и плачет, разбившись об лёд, Абсолют,
но в этом он сам виноват.
«То капризы сердечной аорты…»
То капризы сердечной аорты,
то истерики мелких петард…
А однажды мы были бессмертны
и рядком выходили на старт,
но, финала смешную приманку
оставляя, конечно, чужим,
твёрдо знали: вот кончим разминку,
а потом навсегда убежим.
Подобравши свои неужели,
жили-были и – что там? – нули,
мы и впрямь навсегда убежали
и следы за собой замели,
ни полян не оставив, ни просек
и такую придумав судьбу,
чтоб почтенный какой-нибудь классик
завертелся юлою в гробу.
Ан пора успокоиться классику
да и нам… – осмотреться в пути
и бессмертными санками пу снегу
пару вечных штрихов провести.
«Ничего не случилось. Весёлый верстак…»
Ничего не случилось. Весёлый верстак
постучал и замолк, заперев свою челюсть
на запор, на замок, – и всё кончилось так,
как положено, и ничего не случилось.
Был ноябрь – нет, не так: был ноябрь ноябрём,
отмывались водою кровавые пятна.
Становилось понятно, что мы не умрём.
И что мы не живём, становилось понятно.
Сад давно был не сад никакой – сад был сед.
Дискобол отодвинулся от дискоболши.
Зажигали огни, но давал этот свет
ровно столько, чтоб всем не попбдать – не больше.
День у края стоял и держался как мог —
на каком-нибудь ветхом «навряд ли», «едва ли».
В горле – нет, прямо в сердце – собрался комок
и мешал говорить, и слова застревали.
И часы, зажимавшие время в зубах,
навсегда забывали про велеречивость
и упорно молчали.
И дай-то нам Бог,
чтобы завтра опять ничего не случилось.
«Поедемте с вами на Праздник Старого Года…»
Поедемте с вами на Праздник Старого Года,
прокатимся вместе по всем его узеньким датам,
а слёзы ронять – не пристало убитым солдатам,
поедемте с вами на Праздник Старого Года.
Поедемте в саночках и упадём на колени
за то, что всё кончилось, в общем-то, благополучно:
бежали по минам, простаивали в оцепленьи,
сжимая в руке дорогое колечко-малечко,
молились снарядам, блуждали по чёрным болотам,
писали домой всё в порядке, увидимся в мае,
но знали, что кончилось время, и всё понимали —
кому ж ещё и понимать это, как не убитым!
А кончилось, стало быть, славно: нелепою смертью
для нас и – нелепою жизнью для… для остального,
и мы сокрушались о тех, кому снова и снова
ещё одну жизнь проживать – и вторую, и третью,
и где-то опять проживать, воевать, волноваться
по поводу завтра – какая там будет погода —
и слушать прогнозы заоблачного полководца
про все безнадежные нежности Нового года.
Что бы ни чернело в черновике,
что бы ни темнело невдалеке —
у меня белая ленточка на руке,
у меня белая ленточка на руке.
Я пойду куда-нибудь – вот хоть в сквер
постоять у озера, например,
ничего не взяв с собой, налегке, —
у меня белая ленточка на руке.
Постою с опущенной головой,
пошепчу на утичьем языке,
ибо я, видите ли, живой —
у меня белая ленточка на руке.
А потом… пусть думают, что я пьян, —
я начну кататься по той траве,
по какой ходил король Кристиан,
со звездою жёлтой на рукаве.
Ибо тут, на крохотном островке,
я, простите, сам себе атташе.
У меня белая ленточка на руке.
У меня белая ленточка на душе.
«Вот… а коняшку ведь можно нанять у Палашки…»
Вот… а коняшку ведь можно нанять у Палашки
(есть там такая Палашка, душа-человек) —
всем раздаёт по коняшке, не просит за них ни полушки,
ибо на что ей полушка, глупышке такой… имярек.
Что-то сломалось на свете и вмиг потерялось —
правда, пока мы не знаем, как это зовут,
и проверяем придирчиво каждую впалость:
тут, дескать, вроде бы, пусто… и тут вот, и тут.
Только был некий щелчок нехорошего свойства:
рядом, поблизости – некий избыточный звук…
Впрочем, стоит, как всегда, оловянное войско,
не выпуская оружия, значит, из рук,
и хороши, как всегда, наши радиосводки,
и генералы пышны, и бои не страшны,
и возвращаются все, кто в разведку ушёл, из разведки —
с той стороны и неважно с какой стороны…
Стало быть, всё, как положено, – если б не этот
звук непонятный, прокравшийся в сердце, как тать, —
можно бы и наплевать, только это не метод:
жизни, как прежде, уже никогда не бывать.
Нам бы лишь день простоять, не зовя неотложки,
нам бы лишь ночь продержаться без… знаете, слов!
Вот. А коняшку-то можно нанять у Палашки —
Савиной, значит, Палашки – всего и делов!
«В этом направлении – смятенье всех дат…»
В этом направлении – смятенье всех дат
и ландшафт совсем не такой,
в этом направлении стихи не идут,
как ты их туда ни толкай.
Как ни уговаривай и как ни моли,
ослик не желает назад,
как ты кукурузою его ни мани,
не идет – и всё, супостат.
Ах ты, старый ослик, упрямец ты мой,
как же мы вернёмся домой?
Ах ты, старый ослик с кукурузой во лбу,
Как же мы обманем судьбу?
Вот и рифма точная уже тут как тут,
и размер подстроился… ан —
в этом направлении стихи не идут:
там туман и снова туман.
Там нам было сколько… да шестнадцать, боюсь, —
лет, и снов, и песен, и луж,
там у нас был, кажется, Советский Союз
и другая всякая чушь,
и стихи идут хоть на панель, хоть на суд,
хоть на гибель, хоть напролом,
но туда – туда они никак не идут…
а казалось бы, за углом!
«При покупке конфет золотой петушок…»