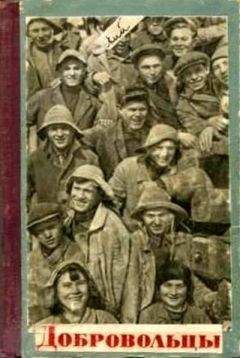Глава тридцать девятая
ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ
Шли в Управленье разговоры:
Кайтанов — он такой-сякой,
Поспорит и дойдет до ссоры,
Не ценит собственный покой.
Набрался мудрости на войнах,
Разнес проект в один момент.
Им инженеры недовольны,
Обижен член-корреспондент.
Однако он работник дельный,
Имеет несколько наград…
Пускай на факультет туннельный
Учиться едет в Ленинград.
А как его семья? Теплову
Со стройки отпустить нельзя.
Но разлучаться им не ново,
Привычно, я б сказал, друзья.
Пускай они решают сами,
Но вуз ему необходим.
А Ленинград не за горами,
И все условья создадим.
Все ясно, не к чему придраться,
И выдан проездной билет.
Так стал Кайтанов ленинградцем
По крайней мере на пять лет.
Я захожу к друзьям старинным,
Но Лелю нелегко застать.
С кайтановским подросшим сыном
Придется посидеть опять.
Мальчишка здорово рисует,
Про все, как взрослый, говорит,
Его Вьетнам интересует
И что такое Уолл-стрит.
От папы вести слишком кратки,
Он пишет: очень трудный год,
Да телеграмму: «Все в порядке» —
Раз в две недели маме шлет.
У дяди Славы перемены:
Он приезжал прощаться к нам,
Он служит где-то возле Вены,
И тетя Таня тоже там.
…Мне не собрать друзей далеких,
Но буду с ними я везде.
Так помнят реки об истоке,
Так помнят птицы о гнезде.
И выпал мне отъезд нежданный.
Экспрессом «Красная стрела»,
И ночь в пути, и день туманный
Сквозь рябь вагонного стекла.
В купе сосед, профессор бойкий.
Зайти ехидный дал совет
В квартиру Пушкина на Мойке,
Чтоб знать, как скромно жил поэт.
Но, времени имея мало
На поучительный досуг,
Я сразу бросился с вокзала
Туда, где учится мой друг.
Как раз звонок по-детски звонок.
И странен всем, как в мае снег,
Среди мальчишек и девчонок
Седоголовый человек.
Кайтанов! Лапы мне на плечи
Кладет он грузно. «Здравствуй, друг!»
Я ощущаю легкость встречи,
Родную тяжесть этих рук.
«Ну, что там Славик? Как там Леля?
Письмо? Давай его сюда!
Сегодня с лекции на волю
Сбегу, — невелика беда».
И мы шагаем с ним проспектом,
Как жизнь, широким и прямым,
Сто раз поэтами воспетым,
С далеким шпилем золотым.
Минуем строгие кварталы,
Не клеится наш разговор…
Но вот навстречу самосвалы,
И виден во дворе копер.
Для нас нет зрелища дороже,
Для нас нет выше красоты:
«Смотри! Метро здесь строят тоже,
Хотя ужасные грунты».
«Ты где живешь?» — «Снимаю угол».
«Пойдем к тебе?» — «Не по пути!»
Ужели он не хочет друга
В свою обитель завести?
Мне это показалось странным.
Ну что ж, на нет и нет суда.
Пахнуло чадом ресторанным.
«А может быть, зайдем сюда?
Вон в глубине свободный столик,
Студент не прочь бы коньячку».
В задорных разговорах Коли
Улыбка прятала тоску.
Но, не назвав ее причины,
Он еле совладал с собой.
Не любят говорить мужчины
О том, что может стать судьбой.
Лет через шесть в степях за Доном
Услышал я его рассказ,
Но, споря с времени законом,
Передаю его сейчас.
Отличный угол снят был Колькой:
Славянским шкафом отделен,
Был со столом, с походной койкой
Дворец студенческих времен.
Хозяйка постояльцу рада:
Зимою страшной у нее
Всех близких отняла блокада,
Оставив горе да жилье.
А как зовут ее? Не важно,
И разве вам не все равно?
На лампе абажур бумажный,
И в комнате полутемно.
Я знаю поколенье женщин,
Которые живут одни,
Достойные любви не меньше,
Чем те, кто счастлив в наши дни.
Заботливы ее вопросы.
Все вечера они вдвоем…
Она свои тугие косы
Завяжет золотым узлом
И сядет рядом, пригорюнясь,
Сомкнув кольцо округлых рук.
Нет, это, кажется, не юность,
Вы поздно встретились, мой друг!
Не очень громко, безыскусно,
Сбиваясь часто, — ну и пусть! —
Она стихи поэтов грустных
Читает Коле наизусть.
Но в этом нету вероломства:
Ведь он до рокового дня
Из всех поэтов (по знакомству)
Читал лишь одного меня.
И вспоминает виновато
Он свой московский непокой:
«Повадка Лели угловата,
И нет в ней тайны никакой?..
А наше первое свиданье
У лунных просек на виду,
И комсомольское собранье
Тогда, в тридцать седьмом году,
И в сорок первом расставанье,
Преодолевшее беду?..»
Все тоньше память жизни прежней,
И вот уже она — как нить.
Любовь ее все безнадежней,
И надо что-нибудь решить,
Иначе этот взгляд печальный,
Где тьма как свет и свет как тьма,
Где встреча длится, как прощанье,
Сведет с ума, сведет с ума.
Но голосом глухим, как эхо,
Хозяйке говорит жилец:
«Я в общежитье переехал,
Прости меня. Всему конец».
И зубы стиснуты до боли,
Так тяжко на душе. Но он
Не зачеркнет второй любовью
Все то, во что навек влюблен!
Пускай всегда хранится в тайне
То, что на берегу донском
Мне позже рассказал Кайтанов
О подвиге своем мужском.
Нет, вовсе не о той победе,
Которой хвастают хлюсты,
А о рожденном на рассвете
Высоком чувстве чистоты.
Глава сороковая
КОГДА ОДИНОКО
Рассветной звезды молодыми лучами
Мы в разные стороны, дальше и дальше
Расходимся, шедшие вместе вначале,
Сквозь общие радости и неудачи.
А нашему утреннему поколенью
На опыте жизни пришлось убедиться,
Что Мы — это главное местоименье
И Я — лишь его небольшая частица.
Но что нам поделать, товарищи, если
И солнца лучи не встречаются в небе.
Бывает, для хора написана песня,
А петь одному ее выпадет жребий.
Товарищи! Как мне без вас одиноко!
Кайтанов, наверно, еще в Ленинграде,
А Слава опять улетает далеко,
И вся наша дружба в невольном разладе.
Портрет на стене — Ильича крутолобость,
Шеренгами книги стоят, как солдаты…
Морями и странами светится глобус,
От света неяркого тени горбаты…
Опять над романом сижу до рассвета,
И кажется мне временами, что это
Веду я стихи, как туннель через скалы,
Сквозь жизни глубины, сквозь горы и годы,
Песок мелочей и событий обвалы,
Сквозь черные и сквозь прозрачные воды.
Вдруг кажется, что ничего не выходит,
Перо по странице беспомощно бродит…
В поэты я выдвинут был бригадиром,
На очень высокую, трудную должность:
Один на один с окружающим миром
Над белым листом остается художник
А нам, в коллективе с младенчества росшим,
Так нужно повсюду быть с другом хорошим!
С таким, чтобы вместе в огонь или в воду,
С таким, чтобы рядом в жару или в стужу.
Иначе, как жабы в сырую погоду,
Пустые обиды вылазят наружу:
Тем был я не понят, а этим не признан,
Там высмеян больно, туда-то не позван.
Ничтожные чувства при социализме
Еще нас терзают довольно серьезно.
Но есть огорчения и пострашнее,
О них умолчать и забыть я не смею:
Оглотков! Не помните этой фигуры?
Он в подлости жил и погиб как собака.
А нынче Оглотков от литературы
Воскрес! До чего вы похожи, однако!
Он ходит за мной, клеветник и наушник,
Статейки кропает он с видом научным,
В которых чернит мою чистую веру
И автора хает с героями вместе.
Зачем? Для того лишь, чтоб сделать карьеру, —
Ведь нет у такого ни чувства, ни чести.
Молчит телефон… Хоть бы кто по ошибке
Мой номер набрал… Я включаю приемник.
Взвились и замолкли заморские скрипки.
Как тихо… Как пусто в пространствах огромных.
Вы не думайте, я не ною,
Просто трудно порой ночною, —
Не работается, не спится,
Без товарищей свет не мил!
Но один сейчас за границей,
На конгрессе борцов за мир;
Спят, устав от трудов, другие;
Ну а третьи спят вечным сном, —
Наши самые дорогие,
За которых мы все живем.
Перед светлою их судьбою
Как-то даже неловко мне
Заниматься самим собою,
С мелкой грустью наедине.
На позднем рассвете, усталый и сонный,
Бегу отвечать на звонок телефонный.
«Большая Медведица вас вызывает».
Вот глупая шутка иль сна продолженье?
А впрочем, чего на земле не бывает!
И слышу я голос: «Приветствую, Женя!
Кайтанов на проводе. Здравствуй, дружище!»
«Откуда ты взялся?»
«Я с нового места.
Медведицу после на карте отыщешь,
Покамест она никому не известна.
На новую стройку я послан в разведку,
Теперь я сижу на практическом деле:
Закончив студенческую пятилетку,
В степях для воды пробиваю туннели.
Ты должен приехать ко мне непременно, —
Учти, для стихов это место бесценно…
Еще не забудь моей маленькой просьбы:
Зайди к нам домой, если время нашлось бы.
Будь другом! Я очень волнуюсь за сына, —
Опять про юнцов фельетоны в газетах.
В наставники Славику нужен мужчина,
Мальчишка нуждается в наших советах».
Всегда разговор на большом расстоянье
Таит недосказанность в окончанье.
…Признаюсь, я начал, тревожась немного,
Воспитывать сына приятелей давних.
Совсем не по мне эта роль педагога,
Какой из меня, извините, наставник!
Теплова на шахте. Я радостно встречен
Мальчишкой в просторном костюме отцовском.
Потом у меня мы сидели весь вечер,
Серьезно беседуя о Маяковском.
Юнец обо всем говорит нагловато.
«Не слишком ли ты задаешься, приятель?» —
Спросил я его, позабыв, что когда-то
Сам детскую робость за наглостью прятал.
А вдруг лобовая атака на доты?
Ты первым пойдешь или голову спрячешь
Смотрю на него, не скрывая заботы,
Мне кажется, мы вырастали иначе.
Но это во всех поколеньях, быть может,
Имеет свое объясненье простое:
Октябрьским гвардейцам казались мы тоже
Весьма легкомысленной мелкотою.