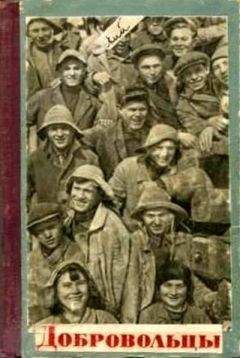Глава сороковая
КОГДА ОДИНОКО
Рассветной звезды молодыми лучами
Мы в разные стороны, дальше и дальше
Расходимся, шедшие вместе вначале,
Сквозь общие радости и неудачи.
А нашему утреннему поколенью
На опыте жизни пришлось убедиться,
Что Мы — это главное местоименье
И Я — лишь его небольшая частица.
Но что нам поделать, товарищи, если
И солнца лучи не встречаются в небе.
Бывает, для хора написана песня,
А петь одному ее выпадет жребий.
Товарищи! Как мне без вас одиноко!
Кайтанов, наверно, еще в Ленинграде,
А Слава опять улетает далеко,
И вся наша дружба в невольном разладе.
Портрет на стене — Ильича крутолобость,
Шеренгами книги стоят, как солдаты…
Морями и странами светится глобус,
От света неяркого тени горбаты…
Опять над романом сижу до рассвета,
И кажется мне временами, что это
Веду я стихи, как туннель через скалы,
Сквозь жизни глубины, сквозь горы и годы,
Песок мелочей и событий обвалы,
Сквозь черные и сквозь прозрачные воды.
Вдруг кажется, что ничего не выходит,
Перо по странице беспомощно бродит…
В поэты я выдвинут был бригадиром,
На очень высокую, трудную должность:
Один на один с окружающим миром
Над белым листом остается художник
А нам, в коллективе с младенчества росшим,
Так нужно повсюду быть с другом хорошим!
С таким, чтобы вместе в огонь или в воду,
С таким, чтобы рядом в жару или в стужу.
Иначе, как жабы в сырую погоду,
Пустые обиды вылазят наружу:
Тем был я не понят, а этим не признан,
Там высмеян больно, туда-то не позван.
Ничтожные чувства при социализме
Еще нас терзают довольно серьезно.
Но есть огорчения и пострашнее,
О них умолчать и забыть я не смею:
Оглотков! Не помните этой фигуры?
Он в подлости жил и погиб как собака.
А нынче Оглотков от литературы
Воскрес! До чего вы похожи, однако!
Он ходит за мной, клеветник и наушник,
Статейки кропает он с видом научным,
В которых чернит мою чистую веру
И автора хает с героями вместе.
Зачем? Для того лишь, чтоб сделать карьеру, —
Ведь нет у такого ни чувства, ни чести.
Молчит телефон… Хоть бы кто по ошибке
Мой номер набрал… Я включаю приемник.
Взвились и замолкли заморские скрипки.
Как тихо… Как пусто в пространствах огромных.
Вы не думайте, я не ною,
Просто трудно порой ночною, —
Не работается, не спится,
Без товарищей свет не мил!
Но один сейчас за границей,
На конгрессе борцов за мир;
Спят, устав от трудов, другие;
Ну а третьи спят вечным сном, —
Наши самые дорогие,
За которых мы все живем.
Перед светлою их судьбою
Как-то даже неловко мне
Заниматься самим собою,
С мелкой грустью наедине.
На позднем рассвете, усталый и сонный,
Бегу отвечать на звонок телефонный.
«Большая Медведица вас вызывает».
Вот глупая шутка иль сна продолженье?
А впрочем, чего на земле не бывает!
И слышу я голос: «Приветствую, Женя!
Кайтанов на проводе. Здравствуй, дружище!»
«Откуда ты взялся?»
«Я с нового места.
Медведицу после на карте отыщешь,
Покамест она никому не известна.
На новую стройку я послан в разведку,
Теперь я сижу на практическом деле:
Закончив студенческую пятилетку,
В степях для воды пробиваю туннели.
Ты должен приехать ко мне непременно, —
Учти, для стихов это место бесценно…
Еще не забудь моей маленькой просьбы:
Зайди к нам домой, если время нашлось бы.
Будь другом! Я очень волнуюсь за сына, —
Опять про юнцов фельетоны в газетах.
В наставники Славику нужен мужчина,
Мальчишка нуждается в наших советах».
Всегда разговор на большом расстоянье
Таит недосказанность в окончанье.
…Признаюсь, я начал, тревожась немного,
Воспитывать сына приятелей давних.
Совсем не по мне эта роль педагога,
Какой из меня, извините, наставник!
Теплова на шахте. Я радостно встречен
Мальчишкой в просторном костюме отцовском.
Потом у меня мы сидели весь вечер,
Серьезно беседуя о Маяковском.
Юнец обо всем говорит нагловато.
«Не слишком ли ты задаешься, приятель?» —
Спросил я его, позабыв, что когда-то
Сам детскую робость за наглостью прятал.
А вдруг лобовая атака на доты?
Ты первым пойдешь или голову спрячешь
Смотрю на него, не скрывая заботы,
Мне кажется, мы вырастали иначе.
Но это во всех поколеньях, быть может,
Имеет свое объясненье простое:
Октябрьским гвардейцам казались мы тоже
Весьма легкомысленной мелкотою.
Глава сорок первая
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Люблю дорогу — самолет, и поезд,
И дальнего автобуса пробег.
Готов я мчать в пустыню и на полюс —
В движенье глубже дышит человек.
Для путешествия мне дай лишь повод,
Меня в дорогу только позови,
И я готов, как телеграфный провод,
Быть вестником событий и любви.
Мне поручили сочиненье песен
Для фильма о военных моряках,
И за ночь очутился я в Одессе
С одним портфелем да плащом в руках.
Фантазия ли в этом виновата,
Но иногда, въезжая в города,
Вдруг кажется, что здесь бывал когда-то,
Хотя и близко не был никогда.
Таким явился мне приморский город,
Невероятных полный новостей:
На улицах кипел горячий говор,
След южного смешения страстей;
Спускались к морю крыши, как террасы,
Открытые для солнца и ветров,
Зеленоусым Бульбою Тарасом
Шумел платан, и нежен и суров.
И я по плитам затвердевшей лавы,
Что с древности, наверно, горяча,
Спустился к синей колыбели славы,
К морским волнам, где тральщиков причал
Для фильма нужно видеть жизнь матросов,
На корабле я принят был как гость.
Немало глупых задавал вопросов,
Поскольку раньше плавать не пришлось.
Но мне прощали эти разговоры
Великие герои без прикрас,
Воюющие до сих пор минеры,
Что в жизни ошибаются лишь раз.
…Еще в начале нашего маршрута
В тумане растворились берега,
Со всех сторон вздымались волны круто
Подобьем бирюзовых баррикад.
Чувствительный прибор сработал четко,
Его сигналы объяснили мне:
В квадрате этом мертвая подлодка,
Чья — неизвестно, залегла на дне.
Напялив водолазную одежду,
Доспехи марсианские свои,
На дно морское с фонарем надежным
Спустился старшина второй статьи.
Над ним качались водяные горы,
И тишина вокруг была как гром.
Средь зарослей багровой филлофоры,
Ракушками обросшую кругом,
Он обнаружил мертвую «малютку»,
Здесь пролежавшую десяток лет,
Когда-то искореженную жутко
Ударом бомб глубинных и торпед.
Таких вестей не удержать в секрете:
Когда в Одессу лодку привели,
На берегу уже стояли дети
И моряки, покинув корабли.
Что там, за переборкою двойною,
В отсеках, не заполненных водой?
Броня уже не кажется стальною,
Так обросла багровой бородой.
Волшебной палочки прикосновенье,
Сиянье автогенного огня —
И наступило страшное мгновенье:
В отсеки хлынул свет и воздух дня,
Там, как живой, матрос, нагнувшись, пишет
В тельняшке рваной, как тогда сидел.
Меня пронзило памятью: Акишин!
Но броситься к нему я не успел.
При соприкосновеньи с кислородом
Он, как сидел с карандашом в руках,
Обмяк и на глазах всего народа
Стал рассыпаться, превращаясь в прах.
Я задыхался. Так мне стало душно,
Как будто весь наличный кислород
За десять лет в пространстве безвоздушном
Себе теперь мой бедный друг берет.
Мне в тот же вечер в штабе рассказали,
Что случай удивительный весьма,
Но на «малютке» в вахтенном журнале
Нашли обрывок личного письма:
«Ты не жалей меня. Я счастлив был
Хотя бы тем, что так тебя любил».
Я объяснил начальнику морскому,
Что с этим человеком вместе рос
И та, кому писал он, мне знакома,
Она не знает, как погиб матрос.
Пусть это трудно другу и солдату,
Но повелело горе мне само
Немедленно доставить адресату
Десятилетней давности письмо.
Мне выдали страницу из журнала,
Истлевшую — едва видны слова, —
И на исходе дня меня встречала
Обычной суматохою Москва.
Но я не представлял себе, как трудно
Мне будет Леле рассказать о том,
Что тот, кто спал так долго непробудно,
К ней нынче обращается с письмом.
И все же я отправился на стройку,
На шахту, где начальницей она,
И в проходной услышал голос бойкий,
Как в дальние, былые времена.
Шла Леля в шлеме и комбинезоне
Навстречу мне по шахтному двору,
С прорабом рассуждая о бетоне,
Кляня вовсю снабженцев и жару.
«А, это ты, писатель! Очень рада!
Я о тебе подумала как раз.
Почаще заходить на шахту надо,
Не отрываться от рабочих масс».
Я молча протянул ей лист бумаги,
Помятый и истлевший по краям,
Где наш Алеша, как слова присяги,
Ей написал: «Любимая моя!»
Она признанье это прочитала —
Как много сказано в одной строке!.. —
И, улыбнувшись горько и устало,
Спустилась в шахту, сжав письмо в руке.
В тот день в подземном станционном зале
Каком? Не важно — где-то по кольцу, —
Бетон в квадратные опоры клали,
И срок работы подходил к концу.
Тут появилась инженер Теплова,
Прошла не как обычно, а быстрей.
И, никому не говоря ни слова,
Трубы обрезок взяв у слесарей,
Туда письмо Акишина вложила
И, зачеканив с двух сторон свинцом,
Письмо меж арматуры поместила
И отошла с задумчивым лицом.
Никто не видел этого. Бетоном
Письмо со всех сторон окружено.
Пусть будет о моем дружке влюбленном
Одним векам рассказывать оно.