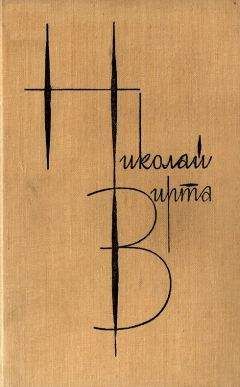198
Пушистые горностаевые зимы,
Пушистые горностаевые зимы,
И осени глубокие, как схима.
На палатях трезво уловимы
Звезд гармошки и полет серафима.
Он повадился телке недужной
Приносить на копыто пластырь —
Всей хлевушки поводырь и пастырь
В ризе непорочно-жемчужной.
Телка ж бурая, с добрым носом,
И с молочным, младенческим взором.
Кружит врачеватель альбатросом
Над избой, над лысым косогором.
В теле буйство вешних перелесков:
Под ногтями птахи гнезда вьют,
В алой пене от сердечных плесков
Осетры янтарные снуют.
И на пупе, как на гребне хаты,
Белый аист, словно в свитке пан,
На рубахе же оазисы-заплаты,
Где опалый финик и шафран.
Где араб в шатре чернотканном,
Русских звезд познав глубину,
Славит думой, говором гортанным
Пестрядную, светлую страну.
О ели, родимые ели,
Раздумий и ран колыбели,
Пир брачный и памятник мой,
На вашей коре отпечатки,
От губ моих жизней зачатки,
Стихов недомысленный рой.
Вы грели меня и питали,
И клятвой великой связали —
Любить Тишину-Богомать.
Я верен лесному обету,
Баюкаю сердце: не сетуй,
Что жизнь, как болотная гать.
Что умерли юность и мама,
И ветер расхлябанной рамой,
Как гроб забивают, стучит,
Что скуден заплаканный ужин,
И стих мой под бурей простужен,
Как осенью листья ракит —
В нем сизо-багряные жилки
Запекшейся крови; подпилки
И критик ее не сотрут.
Пусть давят томов Гималаи, —
Ракиты рыдают о рае,
Где вечен листвы изумруд.
Пусть стол мой и лавка-кривуша
Умершего дерева души
Не видят ни гостя, ни чаш, —
Об Индии в русской светелке,
Где все разноверья и толки,
Поет, как струна, карандаш.
Там юных вселенных зачатки —
Лобзаний моих отпечатки,
Предстанут, как сонмы богов.
И ели, пресвитеры-ели,
В волхвующей хвойной купели
Омоют громовых сынов.
Утонувшие в океанах
Не восходят до облаков,
Они в подземных, пламенных странах
Средь гремучих красных песков.
До второго пришествия Спаса
Огневейно крылаты они,
Лишь в поминок Всадник Саврасый
На мгновенье гасит огни.
И тогда прозревают души
Тихий Углич и праведный Псков,
Чуют звон колокольный с суши,
Воск погоста и сыту блинов.
Блин поминный круглый не даром:
Солнце с месяцем — Божьи блины,
За вселенским судным пожаром
Круглый год ипостась весны.
Не напрасны пшеница с медом —
В них услада надежды земной:
Мы умрем, но воскреснем с народом,
Как зерно, под Господней сохой.
Не кляните ж, ученые люди,
Вербу, воск и голубку-кутью —
В них мятеж и раздумье о чуде
Уподобить жизнь кораблю,
Чтоб не сгибнуть в глухих океанах,
А цвести, пламенеть и питать,
И в подземных, огненных странах
К небесам врата отыскать.
201
Осенние сумерки — шуба,
Осенние сумерки — шуба,
А зимние — бабий шугай,
Пролетние — отрочьи губы,
Весна же — вся солнце и рай.
У шубы дремуча опушка,
Медвежья, лесная душа,
В шугае ж вещунья-кукушка
Тоскует, изнанкой шурша.
Пролетье с весною — услада,
Их выпить бы бражным ковшом…
Есть в отроках хмель винограда,
Брак солнца с надгубным пушком.
Живые, нагие, благие,
О, сумерки Божьих зрачков,
В вас желтый Китай и Россия
Сошлися для вязки снопов."
Тучна, златоплодна пшеница,
В зерне есть коленце, пупок…
Сгинь Запад — Змея и Блудница, —
Наш суженый — отрок Восток!
Есть кровное в пагоде, в срубе —
Прозреть, окунуться в зенит…
У русского мальца на губе
Китайское солнце горит.
202
Олений гусак сладкозвучнее Глинки
Олений гусак сладкозвучнее Глинки,
Стерляжьи молоки Вердена нежней,
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святей.
Что небо — несытое, утлое брюхо,
Где звезды роятся глазастее сов.
Покорствуя пряхе, два Огненных Духа
Сплетают мережи на песенный лов.
Один орлеокий, с крылом лиловатым
Пред лаптем столетним слагает свой щит,
Другой тихосветный и схожий с закатом,
Кудельную память жезлом ворошит:
«Припомни, родная, карельского князя,
Бобровые реки и куньи леса»…
В державном граните, в палящем алмазе
Поют Алконосты и дум голоса.
Под сон-веретенце печные тропинки
Уводят в алмаз, в шамаханский узор…
Как стерлядь в прибое, как в музыке Глинки
Ныряет душа с незапамятных пор.
О, русская доля — кувшинковый волос,
И вербная кожа девичьих локтей,
Есть слухи, что сердце твое раскололось,
Что умерла прялка и скрипки лаптей,
Что в куньем раю громыхает Чикаго,
И Сиринам в гнезда Париж заглянул.
Не лжет ли перо, не лукава ль бумага,
Что струнного Спаса пожрал Вельзевул?
Что бабкина пряжа скуднее Вердена,
Руслан и Людмила в клубке не живут…
Как морж в солнопек, раздышалися стены, —
В них глубь океана, забвенье и суд.
203-206
Поэту Сергею Есенину
I
Оттого в глазах моих просинь
Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын Великих Озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной, беломорский простор.
На закате плещут тюлени,
Загляделся в озеро чум…
Златороги мои олени —
Табуны напевов и дум.
Потянуло душу, как гуся,
В голубой полуденный край;
Там Микола и Светлый Исусе
Уготовят пшеничный рай!
Прихожу. Вижу избы — горы,
На водах — стальные киты…
Я запел про синие боры,
Про Сосновый Звон и скиты.
Мне ученые люди сказали:
«К чему святые слова?
Укоротьте поддевку до талии
И обузьте у ней рукава!»
Я заплакал Братскими Песнями,
Порешили: «в рифме не смел!»
Зажурчал я ручьями полесными
И Лесные Были пропел.
В поучение дали мне Игоря
Северянина пудреный том.
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом.
Лихолетья часы железные
Возвестили войны пожар,
И Мирские Думы болезные
Я принес отчизне, как дар.
Рассказал, как еловые куколи
Осеняют солдатскую мать,
И бумажные дятлы загукали:
«Не поэт он, а буквенный тать!
«Русь Христа променяла на Платовых,
Рай мужицкий — ребяческий бред»…
Но с Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —
Даль повыслала отрока вербного
С голоском слаще девичьих бус.
Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп;
Зашипели газеты: «Татария!
И Есенин — поэт-юдофоб!»
О, бездушное книжное мелево,
Ворон ты, я же тундровый гусь!
Осеняет Словесное дерево
Избяную, дремучую Русь!
Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,
И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес/
Жизнь-Праматерь заутрени росные
Служит птицам и правды сынам;
Книги-трупы, сердца папиросные —
Ненавистный Творцу фимиам!
(1917)