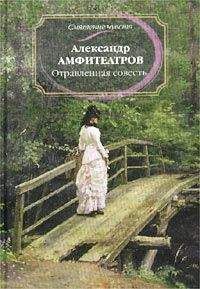— Выслуживайся, негодяй! Это я, я убила твоего Ревизанова.
И чем больше она замечала, что ненавидит Петра Дмитриевича несправедливо, чем больше стыдилась своей несправедливости, тем грознее разрасталось в ней, вопреки собственному ее желанию, чувство обиды и неприязни, инстинктивная антипатия преследуемой к преследующему, волка к гончей. Синев ничего не замечал. Честный малый по-прежнему дружески относился к кузине, и они не раз еще беседовали, в числе других эпизодов его службы, и о ревизановском деле. Верховская выслушивала предположения Синева, и все они представлялись ей нелепыми, натянутыми, потому что она слишком хорошо знала истину. Однажды ее охватила безумная дерзость. Она сказала Синеву:
— Вы, Петр Дмитриевич, говорите, будто это дело трудно именно потому, что просто и глупо. А вы попробуйте взглянуть на него, как не на вовсе дурацкое и случайное.
— То есть ввести в дело фантастического убийцу чуть не по профессии, bravo [24] в юбке, Спарафучиле женского пола? Мой предшественник уже потерпел фиаско на этом предположении. Нет, нет. Вообще, я чем больше вглядываюсь в обстоятельства убийства, тем дальше отстраняю от себя предположение преднамеренности, которого держался раньше. Это убийство внезапное, случайное — из ревности, из мести, по самозащите… ведь — извините! — свинья был покойник, не тем будь помянут!.. — но не подготовленное. Не знаю, зачем шла эта дама к Ревизанову — для свидания или для разрыва, — но несомненно не с тем, чтобы убивать, и убила неожиданно для себя. Она и оружия-то с собою не принесла. Заколола его стилетом, который забыла в его спальне Леони.
— Я с вами согласна, — глухо отозвалась Людмила Александровна, потупив глаза, чтобы не выдать себя их диким блеском, — мне тоже кажется, что убийство это было делом, скорее, случая… может быть, необходимого, фатального, но все же случая, а не злого намерения… У вас, Петр Дмитриевич, нет твердой почвы под ногами, — вам все равно приходится бродить в тумане предположений. Хотите — вместе? Хотите, я расскажу вам, как я предполагаю это убийство?
— Сделайте одолжение… это очень интересно…
— Тогда слушайте. Вы знаете, что за человек был Ревизанов, — сами сейчас сказали. Знаете, как оскорблял и унижал он людей — и больше всех именно женщин… он относился к ним, как к рабыням, как к самкам, как укротитель к своему зверинцу, — опять же вы сами это говорите. Представьте теперь, что одна из его жертв бунтует. Она переутомлена изысканностью его издевательств, довольно их с нее. Но он неумолим, — именно потому, что она бунтует, что она смеет бороться против его власти. И он — не по любви… о нет! а просто по скверному чувству: ты моя раба, я твой царь и Бог, — гнет ее к земле, душит, отравляет ей каждую минуту жизни, держит ее под постоянным страхом… ну, хоть своих разоблачений, что ли. Представьте себе, что она — женщина семейная, уважаемая… и вот ей приходится при этом негодяе быть наложницею… хуже уличной женщины… ненавидеть и принадлежать… поймите, оцените это! И она хитрит с ним, покоряется ему, назначает свидание… и на свидании чаша ее терпения переполняется… и она убила его, а обстоятельства помогли ей скрыться. Что же, по-вашему, — когда вы знаете Ревизанова, — не могло так быть? не могла убить Ревизанова такая женщина? — женщина хотя бы вроде той несчастной, о которой когда-то вы сами рассказывали нам — при самом же Ревизанове — подобную же печальную историю?
Необычайно страстный тон Людмилы Александровны заинтересовал Синева.
«Что с нею? — подумал он и сам же себе ответил: — Эка развинтила себе нервы, барыня! Ни о чем не может говорить спокойно».
— Что же? — настаивала Людмила Александровна.
Синев пожал плечами:
— Это невозможно!
— Почему же?
— Да потому, что это французский роман… Какой же убийца — не профессиональный, конечно…
Верховская улыбнулась с сомнением:
— Как будто есть профессиональные убийцы!
— Есть, Людмила Александровна, в этом вы не сомневайтесь… Редко, но есть. Свет, голубушка, винегрет, составленный из весьма разнообразной гадости. Какой же убийца сумеет так хладнокровно рассуждать и действовать в виду своей окровавленной жертвы? Эх, Людмила Александровна! злодейства легки только у Ксавье де Монтепена, а на самом деле — вы понимаете: я могу быть судьей по этой части, у меня в переделке ух какие соколы бывали! — а на самом деле редкий злодей, свершив убийство, не теряется хоть на несколько мгновений до панического страха. Мне многие признавались, что первое побуждение после убийства — бежать. Бежать без оглядки, без смысла, без цели, лишь бы бежать! И с этим побуждением приходится серьезно считаться, даже бороться.
Верховская устремила на Петра Дмитриевича загадочный взгляд.
— Ну, а Раскольников? — сказала она. — Думаю, что Достоевский не хуже вас знал душу преступника… Что же? преступление Раскольникова, по-вашему, было дурно задумано и исполнено? и… и скрыто?
— А чем же хорошо-то, если человек в конце концов сам пришел с повинною и, заметьте, не по доброй воле, а загнанный, как волк, по пятам — хорошим следователем-психологом? Нет, Людмила Александровна! Русские интеллигентные убийцы еще умеют иногда обдумать и ловко исполнить преступление, но укрыватели они совсем плохие. Совестливы уж очень. Следствие их не съест — сами себя съедят.
Людмила Александровна уже не слушала его. Она думала:
«А я скрыла… ловко, рассудочно, расчетливо скрыла… и ни за что никогда себя не выдам… Ищи, ищи! за то тебе жалованье платят, чтобы ловить ветер в поле».
Но рядом с этою — торжествующею — ее томила другая, болезненная мысль:
«Да что же значит это мое проклятое или благословенное — уж сама не знаю — самообладание? Как? неужели он прав? неужели я холоднее — значит, хуже, безнравственнее, подлее всех убийц? Я? А!..»
И взгляд ее делался все острее и холоднее. И, презрительно усмехаясь, она прервала следователя язвительными словами:
— У вас мало фантазии; в вашем деле это большой порок. Вы никогда не выслужитесь, Петр Дмитриевич.
— Боюсь, что так, — печально сказал он.
У Верховских были гости. В числе их Сердецкий. Писательским чутьем своим он угадал напряженную нервную атмосферу, сгустившуюся в их отравленном тайным ядом доме, и ему стало душно, как всегда душно здоровому, беспечальному человеку среди больных — жертв эпидемии, все равно: телесной или душевной. Он печально приглядывался своими орлиными глазами к хозяйке дома: давно знакомое, милое лицо Людмилы Александровны казалось ему новым, словно он впервые ее видел.
«Как ее перевернуло! — думал он, — что с нею? о, сколько в ней горя и обиды! И откуда взялось оно? кажется, все в порядке… а между тем — Боже мой, ведь это живая покойница. И это она, именно она — никто другой — очаг заразы уныния, которую я чувствую здесь в воздухе…»
— Здорова ли мама? — шепотом спросил он проходившего мимо Митю, притягивая его к себе за руку.
— Кажется, здорова… — возразил мальчик нерешительно.
— Да? А по-моему, дружок, нет и даже очень нет.
Митя замялся:
— Да и мы так думаем, Аркадий Николаевич, — шепнул он, — только ничего не можем поделать с мамою. Она и слышать не хочет, что больна. До того дошло, что — спросишь: здорова ты? — сердится, вся вспыхнет… Вчера даже прикрикнула на меня: «Нечего мною заниматься! умру — успеете похоронить»… Эх!.. меня так и перевернуло: второй день забыть не могу…
Сердецкий выпустил руку юноши и обратился к женскому обществу, привлеченный частым упоминанием его имени.
— Ты не читала последнего романа Аркадия Николаевича? — удивлялась Олимпиада Алексеевна. — О, чудное чудо! о, дивное диво! Как же это сделалось? Прежде ты знала все его произведения еще в корректуре… за полчаса до пожара, что называется. Уж на что я лентяйка, а как только увидала в газетах имя Аркадия Николаевича, сейчас же послала в библиотеку за журналом.
— Не успела, — защищалась Людмила Александровна, — я в последнее время почти ничего не читаю… времени нет.
— Помилуй! — уличила ее Ратасова. — В твоем будуаре целые горы книг. И знаешь ли? Я удивляюсь твоему вкусу. Дело Ласенера, дело Тропмана, Ландсберга, Сарры Беккер — что тебе за охота волновать свое воображение такими ужасами? Брр… брр… брр… меня бы все эти покойники по ночам кусать приходили!
— Вот начитаетесь всяких страстей, а потом и не спите по ночам, — нравоучительно вставил Синев.
Верховская резко обернулась к нему:
— Кто вам сказал, что я не сплю по ночам?
— Степан Ильич, конечно.
Людмила Александровна закусила губу; щеки ее разгорелись, глаза забегали…
— Степан Ильич сам не знает, что говорит. Ему нравится воображать меня больной и в своих заботах о моем здоровье он так скучен, так надоедлив…