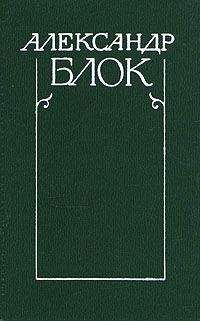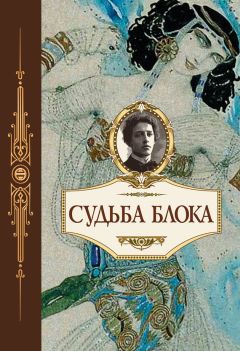В понятном стремлении охарактеризовать новый этап в творчестве Блока критика порой упрощала и огрубляла его содержание, утверждая, например, что «юный певец любви превратился в певца родины». На самом деле все обстояло неизмеримо сложнее.
Однажды, готовя стихи к печати, поэт записал: «Можно издать „песни личные“ и „песни объективные“. То-то забавно делить… сам черт ногу сломит». «Внешний» и «внутренний» мир, человек и современность, человек и история теснейшим образом связаны у Блока друг с другом.
Рисующийся в его лирике «страшный мир» – это не столько даже социальная действительность той поры, хотя поэт и впрямь относится к ней резко отрицательно, сколько трагический мир мятущейся, изверившейся и отчаявшейся души, испытывающей все возрастающее «атмосферное давление» эпохи:
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
… От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.
Определение «певец любви» применительно к Блоку выглядит особенно банально.
Конечно, у него немало стихов, покоряющих силой, чистотой, целомудрием запечатленного в них чувства, и недаром столь разные люди, как Федор Сологуб и Николай Гумилев, сравнивали Блока с Шиллером.
Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
Не дыша.
Снится – снова я мальчик, и снова любовник,
И овраг, и бурьян,
И в бурьяне – колючий шиповник,
И вечерний туман.
Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.
Этот голос – он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.
Бросающаяся в глаза «неправильность», «разнобой» четных строк этого стихотворения, то предельно кратких («Не дыша»), то вдруг удлиняющихся, замечательно передает взволнованность и боль этого – поистине – сновидения, счастливое и горестное «сердцебиение» дорогих воспоминаний.
Выразителен ритмический «пульс» и другого стихотворения:
Протекли за годами года,
И слепому и глупому мне
Лишь сегодня приснилось во сне,
Что она не любила меня никогда…
Последняя строка недаром трудно выговаривается: о таком ровно и спокойно не скажешь…
Но сколько же у «певца любви» иных стихов – о чудовищных метаморфозах, когда вместо настоящего чувства предстает лишь его кривляющаяся тень, торжествует «черная кровь» (примечательное название блоковского цикла) и между людьми и в их собственных душах разверзается «страшная пропасть»!
В стихотворении «Унижение» нагнетаются образы, казалось бы несовместимые с «нормальными» буднями публичного дома, но беспощадно обнажающие всю губительность, бесчеловечность, кощунственность происходящего: эшафот, шествие на казнь, искаженные мукой черты на иконе…
Замечательна «оркестровка» стихотворения: с первых строк возникает особая нота – напряженный, несмолкающий звук («Желтый Зимний Закат За окном… на каЗнь осужденных поведут на Закате таком»), пронизывающий буквально все строфы и порой достигающий чрезвычайного драматизма:
РаЗве дом этот – дом в самом деле?
РаЗве так суждено меж людьми?
… Только губы с Запекшейся кровью
На иконе твоей Золотой
(РаЗве это мы Звали любовью?)
Преломились беЗумной чертой…
Нет, если уж уподоблять Блока певцу, то лишь так, как это сделала Анна Ахматова, назвав его в одном стихотворении «трагическим тенором эпохи». Не традиционным слащавым «душкой-тенором», как поясняла она сама, а совершенно иным, необычным – с голосом, полным глубокого драматизма, и «страшным, дымным лицом» (эти слова из другого произведения Ахматовой перекликаются с собственными строками поэта о «кровавом отсвете в лицах»).
Блок не только магнетически притягивал современников красотой и музыкальностью стиха («Незнакомку» твердили наизусть самые разные люди), но и потрясал бесстрашной искренностью, высокой «шиллеровской» человечностью и совестливостью.
Перед его глазами неотступно стояла «обреченных вереница», о которой говорилось еще в сравнительно ранних стихах, не позволяя «уйти в красивые уюты», прельститься надеждой на собственное, «личное» счастье, как бы оно ни манило. В стихотворении «Так. Буря этих лет прошла…» мысль о мужике, который после подавленной революции вновь понуро «поплелся бороздою сырой и черной», вроде бы готова отступить перед радужным соблазном любви, возврата в страну счастливых воспоминаний, но вкрадчивый зов «забыть о страшном мире» сурово и непреклонно отвергается поэтом.
Трагедия мировой войны отразилась в таких стихах Блока, как «Петроградское небо мутилось дождем…», «Коршун», «Я не предал белое знамя…», оцененных критиками как «оазис в пустоте, выжженной барабанной бездарностью» казенно-патриотических виршей, и еще больше обострила у него любовь к родине и предчувствие неминуемых потрясений. Неудивительно, что все происшедшее в 1917 году он воспринял с самыми великими надеждами, хотя и не обольщался насчет того, чем грозило разбушевавшееся «море» (образ, издавна символизировавший у поэта грозную стихию, народ, историю). С замечательной искренностью выразил он свое тогдашнее умонастроение в стихотворном послании «3. Гиппиус»:
Страшно, сладко, неизбежно, надо
Мне – бросаться в многопенный вал…
Его нашумевшая поэма «Двенадцать», по выражению чуткого современника, академика С. Ф. Ольденбурга, осветила «и правду и неправду того, что совершилось». Дальнейшие же события Гражданской войны и «военного коммунизма» со всеми их тяготами, лишениями и унижениями привели Блока к глубокому разочарованию. «Но не эти дни мы звали», – сказано в его последнем стихотворении «Пушкинскому Дому». Его муза почти замолкает.
И все же даже в редких, последних «каплях» блоковской лирики сказалось бесконечно много: и благодарное преклонение перед жизнью, красотой, «родным для сердца звуком» отечественной культуры («Пушкинскому Дому»), и страстный порыв сквозь наставшую «непогоду» в «грядущие века», и прощальное напутствие собственным стихам, в котором вновь прозвучала столь дорогая ему мысль о неразрывности «объективного» и «личного», образовавшей драгоценный и неповторимый склад его поэзии. В надписи, сделанной на одном из своих последних сборников, подаренном героине цикла «Кармен», актрисе Л. А. Дельмас, он обращался к своим «песням» со словами:
Неситесь! Буря и тревога
Вам дали легкие крыла,
Но нежной прихоти немного
Иным из вас она дала…
Смерть Александра Блока глубоко потрясла самых разных людей.
«Наше солнце, в муках погасшее», – писала о покойном Анна Ахматова.
«У Блока не осталось детей… но у него осталось больше, и нет ни одного из новых поэтов, на кого б не упал луч его звезды, – отозвался на горестную весть другой замечательный писатель, Алексей Ремизов. – А звезда его – трепет слова его, как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова – звезда его незакатна».
Она сияет и поныне.
Андрей Турков
Из книги первой (1898–1904)
Ante Lucem[2][3]
(1898–1900)
С.-Петербург – с. Шахматово
«Пусть светит месяц – ночь темна…»
Пусть светит месяц – ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье, —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Ночь распростерлась надо мной
И отвечает мертвым взглядом
На тусклый взор души больной,
Облитой острым, сладким ядом.
И тщетно, страсти затая,
В холодной мгле передрассветной
Среди толпы блуждаю я
С одной лишь думою заветной:
Пусть светит месяц – ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье, —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Январь 1898. С. – Петербург
«Луна проснулась. Город шумный…»[4]
Луна проснулась. Город шумный
Гремит вдали и льет огни,
Здесь все так тихо, там безумно,
Там все звенит, – а мы одни…
Но если б пламень этой встречи
Был пламень вечный и святой,
Не так лились бы наши речи,
Не так звучал бы голос твой!..
Ужель живут еще страданья,
И счастье может унести?
В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное прости…[5]
14 декабря 1898