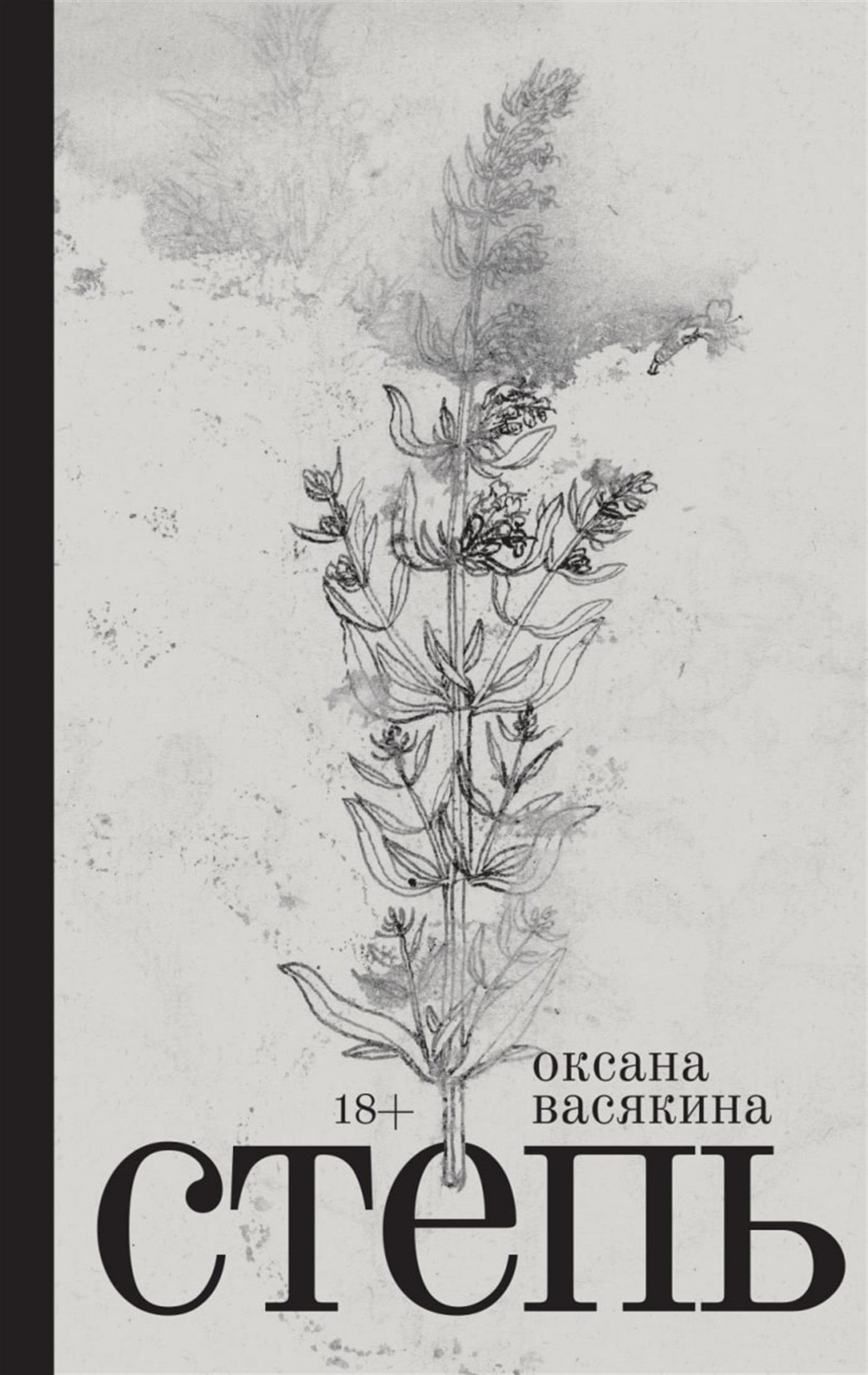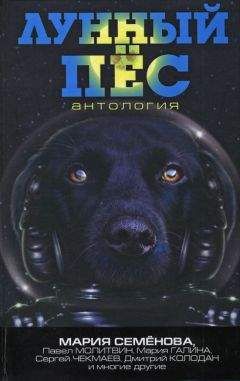было, как бы тогда хорошо жилось
флоре и фауне! Но каждый раз
нечто бунтует во мне. Может, молодость?
Шишка, уазик, тайги аромат.
Всё-таки хочется существовать.
Откуда стихи растут –
оттуда и всё, что «худ»:
картины, кинокартины,
скульптуры и зда-ния.
Художники неповинны
в дуальности бытия.
Я ручкой черчу цветной
(цвет артериальной крови):
прекрасное, ангел мой, –
ужасно в своей основе.
Выбегаю из поля зрения
разношёрстного населения.
Больно — сыплются с неба градины,
остаются на почве вмятины.
Грубоватой отделки курткою
сам себя конвульсивно кутаю.
А за маленьким полем зрения –
беспредельная степь п р о з р е н и я.
В бытовании мало смысла,
я поэтому-то смылся.
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
Александр Пушкин
Снуют по крыше
злодейки-мыши,
точней, мышата.
Мне мерзковато.
Беру воздушку,
как вижу мышку,
беру на мушку,
пив-пав, под мышку –
ружьё, за хвостик
и в печку — тельце,
в котором больше не бьётся сердце.
Снуют средь ночи!
Достали очень
меня мышата.
Я бог их, правда.
Я бог, я бог их
и дьявол вкупе –
малых, убогих,
вонючих, глупых,
заразных, разных
и в то же время
похожих. Тише на крыше, племя!
Наелось, пламя?
Всё жаждешь грешных?
Мышата, знамо,
грешны. Полешко
ещё закину
и на охоту.
…Чу — дышит в спину
огромный кто-то…
(звук выстрела)
В натяжной потолок
пялюсь — вижу своё отражение.
Я почувствовал изнеможение,
оттого и прилёг.
Отражение на меня
в свою очередь пялится. С улицы
шум доносится — дети беснуются.
Их бы делом занять.
В натяжном потолке
исчезают, взлетая ли, падая,
холодильник и прочая всякая
утварь — будто в реке
они тонут. За всем
я несусь, выплываю из омута
и из тесной безжизненной комнаты
попадаю в Эдем.
Райский сад, торжество
флоры, фауны, небо лиловое.
Дежавю: воплотился здесь снова я.
Слышу, кто-то зовёт:
«Сашка, Сашка, сюда!»
Чей-то голос знакомый, и сыздетства.
Жаль, не может родная кириллица
интонацию передать.
Замечаю вдали
силуэт человека под деревом.
Приближаюсь… Глаза, я не верю вам…
Прадед мой. «Саш, пошли.
Вырос как! Раздобрел!
Ты за яблоком? Слушай, не ешь его.
Богу — богово, лешему — лешево», –
говорит, бел как мел.
А потом достаёт
лист из куртки, читает беспаузно:
«Невозможен-порядок-без-хауса-
невозможен-порядок-без-хауса-
невозможен-порядок-без-хауса…»
Я молчу — скован рот.
Из колючих кустов
выбегает собачка-красавица –
Дженна! Хвостиком машет и ластится.
Разрыдаться готов.
Наклоняюсь — она
за секунду становится мёртвою.
Дженна, Дженночка! Я её трогаю –
та тверда, холодна.
Просыпаюсь в момент –
затянула обратно действительность.
Стало тихо. Ухудшилась видимость.
Рая нет. Ада нет.
Русская баня –
аналог Небесного Царства.
Дмитрий Артис
Русская баня –
аналог подземного ада.
И уверять, что она –
это рай, нет, не надо.
Пар — закись серы,
вода — настоящая лава.
Русская, как и стокгольмская, баня –
кровава.
Веником бьют по тебе
или сам себя хлещешь,
с каждым ударом
жар чувствуешь явственней, резче.
Тело твоё
от безумства берёзовых розог
чуть ли не сразу
становится дряблым и розовым.
После выходишь из бани
и мажешься снегом,
ухаешь, что-то кричишь
и бего́м или бе́гом
ты возвращаешься в ад,
потому что снаружи
хуже (я знаю о чём говорю):
всё трещит из-за стужи.
Лежишь на нарах и слышишь ветер,
как он роняет на землю шишки,
а возле, вытянувшись, собачка
сопит, поскольку устала очень.
И ты устал, но заснуть не можешь.
Твоя одежда в крови кедровой –
пахучей, липкой и желтоватой.
До переезда в Иркутск — три года,
семь лет — до выпуска и работы
и девять лет — до лиловой свадьбы.
Тебе ещё неизвестно это.
Известно лишь, что писать не бросишь.
Выводишь строки, электролампа
твою тетрадь освещает… Глазом
моргнёшь, наступит затишье, утро,
моргнёшь, и ты — пожилой поэт.
План ночёвки на Улан-Хада
Посижу у рисунков, оставленных там, –
человечков, собак и бизонов.
Надо мною ударит великий шаман…
Я почувствую запах озона.
…Надо мною ударит великий шаман
в очень туго натянутый бубен.
Я усвою, что данной эпохе не дан,
что я был и, конечно же, буду.
Сядет долго горевший электрофонарь,
я засну, а проснувшись, увижу,
как скуласто-лобастая дюжина харь,
группа лиц, возведением хижин
занимается. Видимо, мало пещер
для такого количества homo.
Я спущусь, пособлю — у меня глазомер
ого-го — не могу ведь без дома.
Дышать тяжело. В чём причина?
Возник в моём горле комок, комочина.
Надеюсь, не рак,
а так,
пустяк.
Является мне Маяковский — растерянный
в связи с суицидом Есенина:
«В горле
горе комом –
не смешок».
Ок,
я и не смеюсь, Владим Владимыч.
Дело в том, наверно, что стишок
горла поперёк
встал — стихи-то труднопроходимы.
Точно. Было ранее со мной –
не впервой.
Я однажды чуть не умер! Да,
чуть не задохнулся. А когда
сформулировал стихотворение,
сразу рассосался чёртов ком.
Творчество — есть акт высвобождения
чувств и мыслей…
Задышал легко.
Лакальное (от слова «лакать»)
Рядом с домом Александры
Будник пальмы шелестят –
вроде тех, что динозавры
объедали шестьдесят
миллионов лет назад
здесь. Но только из кусочков
пластика, из «Жигулей»,
«Балтики», «Трёх медведе́й».
Это образ края — точно.
Края-рая. Алкашам,
игнорирующим хлам
бытия, к небытию лишь
тянущимся, знаю сам,
мил Хилок. Глотнёшь, покуришь –
попадёшь на райский остров
(уточню, микроРАЙон
тут, конечно, ни при чём –
настоящий: фруктов вдосталь
да водою окружён).
И температурный минус
станет плюсом, ветер-хиус –
лёгким бризом.
Робинзон
Вы расстанетесь — жутким криком тишь
ты наполнишь. Изображения,
на которых вы вместе, выкинешь,
те, что в облаке, без сомнения,
удалишь. Ничего от бывшего,
кроме камушка-сердца с озера –
по-любому ты сохранишь его.
Да же? [Чувствую, заелозила].
Тихо, тихо, пока не нервничай,
будет час — разойдётесь. Признаки
налицо: на лице-то мелочи