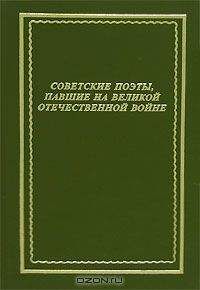117. «За десять миллионов лет пути…»
За десять миллионов лет пути
Сейчас погасла звезда.
И последний свет ее долетит
Через четыре года.
Девушка восемнадцати лет
Пойдет провожать поезда
И вдруг увидит ослепший свет,
Упавший в черную воду.
Девушка загрустит о ней,
Утонувшей в черной воде.
Так, погасшая для планет,
Умрет она для людей.
Я б хотел словами так дорожить,
Чтоб, когда свое отсвечу,
Через много лет опять ожить
В блеске чьих-то глаз.
1938
118. «Девушка взяла в ладони море…»
Девушка взяла в ладони море,
Море испарилось на руках.
Только соль осталась, но на север
Медленные плыли облака.
А когда весенний дождь упал
На сады, на крыши, на посевы,
Капли те бродячие впитал
Белый тополиный корень.
Потому, наверно, ночью длинной
Снится город девушке моей,
Потому от веток тополиных
Пахнет черноморской тишиной.
1938
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна.
Трехлетний вдумчивый человечек,
Обдумать миры подошедший к окну,
На небо глядит и думает Млечный
Большою Медведицей зачерпнуть.
…Сухое тепло торопливых пожатий,
И песня, старинная песня навзрыд,
И междупланетный Вагоновожатый
Рычаг переводит на медленный взрыв.
А миг остановится. Медленной ниткой
Он перекрутится у лица.
Удар! И ракета рванулась к зениту,
Чтоб маленькой звездочкой замерцать.
И мир, полушарьем известный с пеленок,
Начнет расширяться, свистя и крутясь,
Пока, расстоянием опаленный,
Водитель зажмурится, отворотясь.
И тронет рычаг. И, почти задыхаясь,
Увидит, как падает, дымясь,
Игрушечным мячиком брошенный в хаос
Чудовищно преувеличенный мяч.
И вечность космическою бессонницей
У губ, у глаз его сходит на нет,
И медленно проплывают солнца,
Чужие солнца чужих планет.
Так вот она – мера людской тревоги,
И одиночества. И тоски!
Сквозь вечность кинутые дороги,
Сквозь время брошенные мостки.
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У моря отбили, отбили у крови,
Отбили у тупости и зимы.
Во имя войны сорок пятого года.
Во имя чекистской породы.
Во имя принявших твердь и воду.
Смерть. Холод. Бессонницу и бои.
А мальчик мужает… Полночью давней
Гудки проплывают у самых застав.
Крылатые вслед разлетаются ставни,
Идет за мечтой, на дому не застав.
И может, ему, опаляя ресницы,
Такое придет и заглянет в мечту,
Такое придет и такое приснится…
Что строку на Марсе его перечтут.
А Марс заливает полнебосклона.
Идет тишина, свистя и рыча,
Водитель еще раз проверит баллоны
И медленно пе-ре-ведет рычаг.
Стремительный сплав мечты и теорий,
Во всех телескопах земных отблистав,
Ракета выходит на путь метеоров.
Водитель закуривает. Он устал.
Август 1939
Ромбическая лепка мускула
И бронза – дьявол или идол,
И глаза острого и узкого
Неповторимая обида.
Древней Китая или Греции,
Древней искусства и эротики,
Такая бешеная грация
В неповторимом повороте.
Когда, сопя и чертыхаясь,
Бог тварей в мир пустил бездонный,
Он сам создал себя из хаоса,
Минуя божии ладони.
Но человек – созданье божие,
Пустое отраженье бога –
Свалил на землю и стреножил,
Рукой уверенно потрогал.
Какой вольнолюбивой яростью
Его бросает в стены ящика,
Как никнет он, как жалко старится
При виде сторожа кормящего,
Как в нем неповторимо спаяны
Густая ярость с примиренностью.
Он, низведенный и охаянный,
Но бог по древней одаренности.
Мы вышли. Вечер был соломенный,
Ты шел уверенным прохожим,
Но было что-то в жесте сломанном
На тигра пленного похожим.
19 ноября 1939
121. «Всё на свете прощается…»
Всё на свете прощается,
Кроме памяти ложной
И детского ужаса.
Нам с рожденья положено
Почти аскетическое мужество.
И на стольких «нельзя»
Наше детство сухое редело.
Этот год перезяб,
Этот год перемерз до предела.
В этот год по утрам
Нам с тобою рубля не хватало,
Чтоб девчонке купить молока,
Чтоб купить папирос.
Ты снимала с ресниц
подозрительные кристаллы,
И, когда не писалось,
Примерзало к бумаге перо.
Что же, мы пережили,
Двужильные настоящие,
Что же, мы пережили
Без паники, не торопясь.
И всего-то делов, что прибавилось в ящике
Комья строк перемерзших моих
И записок твоих бесконечная вязь.
…………………………..
Мы наверное выживем,
Нам от роду такое положено,
И не стоит об этом –
Кому это, к дьяволу, нужно.
Всё на свете прощается,
Кроме памяти ложной
И детского ужаса…
1940
Ослепительной рыжины
Ходит лисонька у ручья,
Рыжей искоркой тишины
Бродит лисонька по ночам.
Удивительна эта рыжь,
По-французски краснеет – руж,
Ржавый лист прошуршит – тишь,
Можжевельник потянет – глушь.
Есть в повадке её лесной
И в окраске древних монет
Так знакомое: блеснет блесной,
И приглушенное: не мне.
Ходит лисонька у ручья,
Еле-еле звучит ручей.
Только лисонька та – ничья,
И убор её рыжий ничей.
Если сердит тебя намёк,
Ты, пожалуйста, извини –
Он обидою весь намок,
Он же еле-еле звенит.
Ноябрь 1940
123. «Ковыль-трава и разрыв-трава…»
Ковыль-трава и разрыв-трава,
И злая трава – полынь.
Опять на Азорские острова
Море ведет валы.
А ты, ты падаешь наискосок,
Комнату запрудив
Смертью своей и строкой своей,
Рукой, прижатой к груди.
Так вот он, берег последний твой,
Последней строки предел.
Стой и стынь, стынь и стой
Над грудой дум и дел…
1940
Жоре Лепскому
Вот и мы дожили,
Вот и мы получаем весточки
В изжеванных конвертах с треугольными штемпелями,
Где сквозь запах армейской кожи,
Сквозь бестолочь
Слышно самое то,
То самое, –
Как гудок за полями.
Вот и ты, товарищ красноармеец музвзвода,
Воду пьешь по утрам из заболоченных речек.
А поля между нами,
А леса между нами и воды.
Человек ты мой,
Человек ты мой,
Дорогой ты мой человече!
А поля между нами,
А леса между вами.
(Россия!
Разметалась, раскинулась
По лежбищам, по урочищам.
Что мне звать тебя?
Разве голосом ее осилишь,
Если в ней, словно в памяти, словно в юности:
Попадешь – не воротишься.)
А зима между нами,
(Зима ты моя,
Словно матовая,
Словно ро сшитая,
На большак, большая, хрома ты,
На проселочную горбата,
А снега по тебе – громада,
Сине-синие, запорошенные.)
Я и писем писать тебе не научен.
А твои читаю,
Особенно те, что для женщины.
Есть такое в них самое,
Что ни выдумать, ни намучить,
Словно что-то поверено,
Потом потеряно,
Потом обещано.
(…А вы всё трагической героиней,
А снитесь – девочкой-неспокойкой.
А трубач – тари-тари-та – трубит: «по койкам!»
А ветра сухие на Западной Украине.)
Я вот тоже любил одну, сероглазницу,
Слишком взрослую, может быть слишком строгую.
А уеду и вспомню такой проказницей,
Непутевой такой, такой недотрогою.
Мы пройдем через это.
Как окурки, мы затопчем это,
Мы, лобастые мальчики невиданной революции.
В десять лет мечтатели,
В четырнадцать – поэты и урки,
В двадцать пять – внесенные в смертные реляции.
Мое поколение –
это зубы сожми и работай,
Мое поколение –
это пулю прими и рухни.
Если соли не хватит –
хлеб намочи потом,
Если марли не хватит –
портянкой замотай тухлой.
Ты же сам понимаешь, я не умею бить в литавры,
Мы же вместе мечтали, что пыль, что ковыль, что криница.
Мы с тобою вместе мечтали пошляться по Таврии
(Ну, по Крыму по-русски),
A шляемся по заграницам.
И когда мне скомандует пуля «не торопиться»
И последний выдох на снегу воронку выжжет
(Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил),
Ты прости мне тогда, что я не писал тебе писем.
А за нами женщины наши,
И годы наши босые,
И стихи наши,
И юность,
И январские рассветы.
А леса за нами,
А поля за нами –
Россия!
И наверно, земшарная Республика Советов!
Вот и не вышло письма.
Не вышло письма,
Какое там!
Но я напишу,
Повинен.
Ведь я понимаю,
Трубач «тари-тари-та» трубит: «по койкам!»
И ветра сухие на Западной Украине.
Декабрь 1940
125. «О чистая моя мечта…»