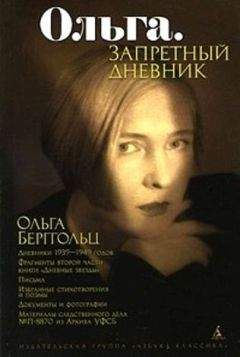Уже войска наши приблизились к Берлину на расстояние, равное расстоянию от Ленинграда до Луги.
У Ленинграда особые счеты с Берлином.
Год, минувший с торжественного салюта, Ленинград посвятил своему возрождению. Но мы ничего не забыли за этот год, ничего. Мы своими руками уничтожаем в городе следы фашистских преступлений, мы сами покрываем свежей краской стены наших домов; но мы помним, что под этой краской – кровь наших сограждан. Ее не смыть, не закрасить, не уничтожить. Она впиталась в камни нашего города навеки. Быть может, еще не так скоро поставим мы памятник Безымянному Ленинградцу над военными могилами, которых не знала ни одна история, ни один город: над братскими траншеями ленинградцев, погибших от голода. Еще не поставлен над ними памятник, но мы помним, где эти траншеи тянутся…
И мы знаем единственных виновников всего этого – гитлеровцев. Их вожаки в Берлине. Вот почему мы мерим расстояние до Берлина своей, ленинградской мерой и исчисляем своим, ленинградским временем.
И чем ближе будут подходить наши войска к Берлину, тем страшнее будем исчислять мы, ленинградцы, остающееся до него расстояние. Мы будем говорить: «До Берлина – как от Ленинграда до Гатчины»; «До Берлина – как от Ленинграда до Пулкова». И наконец мы войдем в Берлин…
Этот день будет. Мы знали об этом еще в сорок первом году, когда враг подошел к нашим стенам и посягнул на свободу города, – безымянные ленинградцы клялись этим днем, этот день недалек, к нему вместе со всей страной движется Ленинград.
…Сегодня праздник в городе.
Сегодня
мы до утра, пожалуй, не уснем.
Так пусть же будет как бы новогодней
и эта ночь, и тосты за столом.
Позволь же мне по гулкому эфиру
сквозь этот черный говорящий круг
войти в твою вечернюю квартиру,
мой ленинградский,
мой давнишний друг!
Позволь с тобой стакан поднять, как чашу,
за дружбу незапятнанную нашу,
за кровное блокадное родство,
за тех,
кто не забудет ничего.
И первый тост, воинственный и братский,
до капли, до последнего глотка, –
за вас, солдаты армий ленинградских,
осадою крещенные войска.
За вас, не дрогнувших перед проклятым
сплошным потоком стали и огня…
…Бойцы Сорок второй,
Пятьдесят пятой,
Второй Ударной,
слышите ль меня?
В далеких странах,
за родной границей,
за сотни верст сегодня вы от нас.
Чужая вьюга
хлещет в ваши лица,
чужие звезды
озаряют вас.
Но сердце наше – с вами. Мы едины,
мы неразрывны, как и год назад.
И вместе с вами подойдет к Берлину
и властно постучится Ленинград.
Так выше эту праздничную чашу
за дружбу незапятнанную нашу,
за кровное военное родство,
за тех,
кто не забудет ничего…
…А мы теперь с намека, с полуслова
поймем друг друга и найдем всегда.
Так пусть рубец, почетный и суровый,
с моей души не сходит никогда.
Пускай душе вовеки не позволит
исполниться ничтожеством и злом,
животворящей, огненною болью
напомнит о пути ее былом.
Мы знаем, умудренные войною:
жестоки раны – скоро не пройдут.
Не все сады распустятся весною,
не все людские души оживут.
Мы трудимся безмерно, кропотливо…
Мы так хотим, чтоб, сердце веселя,
воистину была бы ты счастливой,
обитель наша, отчая земля!
И верим: вновь пути укажет миру
наш небывалый,
тяжкий,
дерзкий труд.
И будет время – к Северной Пальмире
во множестве паломники придут.
Придут из мертвых городов Европы
по неостывшим, еле стихшим тропам.
Придут, как в сказке, за живой водой,
чтоб снова землю сделать молодой.
Так выше, друг, торжественную чашу
за этот день,
за будущее наше,
за кровное народное родство,
за тех,
кто не забудет ничего…
27 января 1945
Берлин пал.
Берлин взят войсками Красной Армии.
Берлина как столицы гитлеровской Германии – нет.
Миллионы людей – воинов, их матерей, их детей и сирот, их жен, вдов и невест, – миллионы людей миллионами уст во всех уголках земли твердят сегодня: «Берлин пал», твердят без устали, с восторгом и счастьем.
Нет, Берлин был не просто столицей Германии.
Это гитлеровский Берлин источал из себя тьму, которая ползла по всему земному шару, из страны в страну, задергивая окна черным, гася вечерние огни, погружая города и села в ночь, оставляя лишь зловещий свет пожаров.
Это в Берлине – в рейхстаге его – кишели и клубились самые ядовитые, самые подлые и смертоносные замыслы против всего человечества.
Это из Берлина, из «штаб-квартиры фюрера», нагло, истошно, злорадно голосили фанфары, оповещая об очередном совершенном фашистами преступлении.
Фюрерские фанфары ревели при падении Парижа, при оккупации Норвегии, при уничтожении Варшавы, при взятии Минска, Киева, Смоленска. Они же, эти трижды проклятые фанфары, не один раз нагло провозглашали «несомненное падение Москвы и Ленинграда».
Берлинские фанфары ревели пронзительным, несытым, клокочущим ревом… Я помню это. Я никогда не забуду, как однажды слышала их. Это было в октябре сорок первого. Уже был взят в кольцо Ленинград. Уже к Москве, к самому сердцу Родины, прорывались фашисты, уже отборные эсэсовские дивизии стояли наготове, чтобы начать расправу над нашими городами – Москвой и Ленинградом. И вот в тот вечер мы – группа работников радиокомитета – услышали эти ревущие фанфары. Сначала они прорычали грубый, наглый, торжествующий марш. Затем женский голос произнес: «Сейчас будет говорить штаб-квартира фюрера…» Потом снова пять минут ревели фанфары. Мы стояли у приемника, сжав кулаки, стиснув зубы: уже более двух месяцев не было в Ленинграде ни музыки, ни песен, только метроном стучал в перерывах между краткими радиопередачами, только метроном стучал, как невидимый плотник, да свистели снаряды и бомбы… И вот фанфары проревели в шестой раз, и сытый, самодовольный голос почти лениво произнес, что якобы под Москвой окружено и уничтожено несметное количество наших войск, что якобы путь на Москву открыт, что «дни большевистской столицы сочтены», что «Ленинград тоже обречен»… И после этого сообщения вновь долго и грубо торжествующе ревели фанфары, и вдруг… сразу, без паузы, страшный этот дикий солдатский марш перешел в беспечный фокстрот. И тот же голос, который только что сообщал о «неминуемой гибели России», запел какие-то пошлые слова, что-то вроде «О моя кисанька, что ты думаешь об этом…»
…И танго следовало за танго, один фокстрот за другим, без остановки, пока в городе нашем стучал метроном – в голодающем, темном городе, отрезанном от всей страны. А фашистский Берлин – разбойничий притон – веселился! Берлин веселился, ликовал и отплясывал потому, что реки крови пенились в России. Берлин веселился потому, что горели тысячи русских деревень, гибли люди, потому, что в Ленинграде дети и женщины уже начинали пухнуть от голода, – Берлин захлебывался от восторга.
Мы слушали это людоедское ликование, и я помню, как начальник отдела Николай Верховский (через три месяца он погиб от голода) сквозь зубы сказал:
– Н-ну… будет время… у них метроном все-таки и двух месяцев не простучит.
Но метроном не стучал в Берлине и одного месяца. Они на весь мир провозглашали о «неминуемом падении Москвы» – и не взяли ее. Они четыре месяца обрушивали на Сталинград столько железа, огня и смерти, что этого хватило бы на тысячелетия, – и не взяли его. Они девятьсот дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь, – и не взяли его.
Берлин взят. Нет, не тридцать месяцев и даже не четыре пришлось осаждать Берлин. Всего десять дней штурмовали его наши войска. И первый залп по Берлину был сделан ленинградскими артиллеристами – воинами города, который девятьсот дней подвергался обстрелам. Так вместе с москвичами, сталинградцами, севастопольцами подошел Ленинград к Берлину, ворвался в него и бросил его на колени.
Мы не злорадствуем. Злорадство было бы недостойно нас самих, оно было бы ниже наших жертв, нашего самоотречения, нашего мужества. Мы справедливо торжествуем. Это торжество света над мраком, торжество человека над злобной и кровожадной гадиной, торжество великодушного народа над обидчиком человечества. Это торжество полно светлого предчувствия близкой, теперь уже очень близкой, окончательной победы!