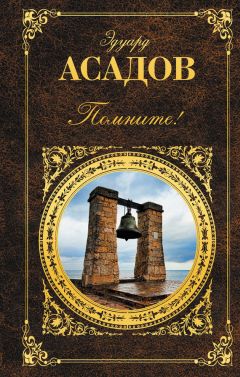– А зовут меня Елена Николаевна. Мне двадцать три года, и я из Москвы!
В напряженной торопливости фронтовых будней эпизод этот мог забыться и кануть в Лету навсегда. И наш веселый двухминутный разговор, вероятнее всего, не имел бы никакого продолжения, если бы не одно обстоятельство. Через день пришел приказ, по которому огневые силы нашего дивизиона срочно перебрасывались для возможного поддержания боевых действий наших частей на соседний участок фронта, где обстановка внезапно осложнилась. В подобных случаях за старшего в расположении части обычно оставался начштаба дивизиона старший лейтенант Борис Лихачев. Красавец, балагур и сквернослов. Но сейчас он заболел, и своим заместителем в расположении части комдив майор Хлызов назначил меня. Я огневик. И оставаться, хоть и временно, на месте начальника штаба ужасно не хотел. Но характер у командира дивизиона был крут, и возражать ему без особых причин, по общему мнению, не рекомендовалось.
Итак, основная часть дивизиона на рассвете снялась и ушла за добрые сто километров. А у меня впереди было три-четыре дня тихой и прямо-таки лучезарной жизни. И одна из привлекательнейших сторон ее заключалась для меня в том, что после ряда бессонных ночей, во время которых совершались утомительные походы за Перекоп на огневую, появилась заманчивая перспектива выспаться всласть!
Но едва, позавтракав и забравшись на печь, я собрался «припухнуть» два-три блаженных часа, а то и больше, как в хату стремительно ворвался начхим Ульяненко и стал энергично тормошить меня за ногу:
– Слушай, черт тебя побери! Вставай! После войны отоспишься. Да очнись же скорей! Я точно узнал координаты той москвички… Ну, хату, где она сейчас живет… Это же рукой подать отсюда… Ну, шагов двести, не больше!
– Какой москвички? – хмуро отозвался я, садясь и протирая глаза. – Не шуми, ну чего ты петушишься?
– Как то есть какой? Будто не понимаешь! Да той же докторши, ну вот что тогда улыбалась.
– Ну, во-первых, я не помню, чтобы она особенно нам улыбалась, – проговорил я, спуская ноги с печи и закуривая. – А во-вторых, если уж ты решил познакомиться с ней, так пошел бы и повидался. Тем более имя знаешь. Зовут ее Елена Николаевна. А меня-то чего тормошишь?
– Нет, ты погоди, постой… – переходя на ласковый тон, вкрадчиво заговорил Сеня. – Просто так идти совершенно бесполезно. Тем более что у них там и своих гусаров полно. Тут, понимаешь, премудрость нужна и деликатность, конечно… Ну, давай, шут тебя дери! Слезай с печки! Хватит спать!
Сон окончательно прошел. А взъерошенный вид Ульяненко так развеселил меня, что я засмеялся и спрыгнул с печи.
– Ну давай, начхим, придумывай свою «дымовую завесу»!
После непродолжительного и веселого обсуждения самых хитромудрейших и сложнейших способов покорения докторской красоты, которые по громоздкости или нереальности последовательно отбрасывались один за другим, решено было остановиться на самом надежнейшем и простейшем: сегодня, если красавица вновь пойдет вдоль наших домов, чтобы навестить свою пациентку, мы вновь как бы невзначай остановим докторшу и постараемся поразить ее воображение красивыми и проникновенными речами. Один на такой разговор Ульяненко по трусливости духа не соглашался ни за какие блага на земле. Беседа же эта, как он полагал, была необходима, так сказать, «для затравки», для начального впечатления.
Главный же «стратегический» удар, как надеялся тот же Сеня Ульяненко, должен быть нанесен на следующий день утром. Поутру же решено было поступить так: один из нас забирается на печь или укладывается на скамью и, укрывшись шинелью, становится «больным». Другой, напустив на лицо беспокойство и скорбь, отправляется прямым путем к прекрасной врачихе и приглашает ее к «несчастному страдальцу». Затем после ее лечения и советов «больной» медленно и в то же время достаточно энергично начинает поправляться, а затем, ощутив в себе могучую силу медицины, сходит со смертного одра и с просветленной улыбкой пополняет ряды ее поклонников. Просто и вместе с тем гениально!
Но кому со скорбным видом ложиться, как говорится, «под образа», а кому отправляться на переговоры, это мы долгое время не могли утрясти. Сказываться больным Ульяненко не хотелось. В этом случае его шансы по части покорения врачихиного сердца, как он думал, становились значительно ниже моих.
– Я, значит, буду лежать да охать, а ты будешь ей улыбаться, тары да бары, а потом провожать пойдешь? Нет, это мне не светит, – хорохорился он. Однако перспектива быть фельдъегерем, глашатаем и послом светила ему еще меньше. Отвага его в любовных делах была, если так можно сказать, заочно-теоретической. И необходимость идти на переговоры с глазу на глаз с капризной и насмешливой докторшей повергала его почти в ужас. Я начинал сердиться:
– Слушай, Семен! Ты давай либо в кузов, либо из кузова! Сам же распетушился. Не дал мне спать, а теперь крутишься, как пропеллер. В общем, давай выбирай: либо ты посланник, либо больной! А не то – ну тебя к шуту, и я пойду спать!
Ульяненко мучительно наморщил лоб, словно решая великий вопрос, а затем изрек:
– Ладно, хворать буду я. А на переговоры ступай ты. Главное, пригласить, а там видно будет!
Итак, решение наконец принято. Но тут неожиданно возник новый вопрос: чем Ульяненко должен заболеть? Грипп его не устраивал.
– Во-первых, несколько дней проваляться придется. Во-вторых, температура нужна, а где ее взять? Да и вообще мне это не годится. Мне надо, чтобы я сразу поправиться смог.
Больной зуб тоже был отметен сразу:
– Это что же, я буду мычать и молчать? Нет, это тоже не пойдет! Я разговаривать должен!
Мысль об отравлении и расстройстве желудка вызвала у него сатанинский смех:
– Ну, здравствуйте, добрый день! Это чтобы я с такой красавицей разговор про кишки да горшки повел? Да никогда в жизни!
И тут меня осенило:
– Послушай, а аппендицит?
– Что аппендицит? – уставился на меня Сеня.
– Приступ аппендицита, – воодушевленно продолжал я. – И благородно, и хорошо. И очень даже скоро пройти может.
– А в госпиталь не увезут? – недоверчиво спросил Семен. – Там ведь у этих резаков все просто: раз-два, и под нож угодить можно!
– Да нет, – с видом полного знатока заверил его я. – После первого приступа в больницу никогда не везут. Говорят, это надо, чтобы второй или третий.
Ульяненко повеселел:
– Вот это, пожалуй, годится! Однако постой, а где помещается этот самый аппендицит? На какой точно стороне?
Ни санинструктора Башинского, ни военфельдшера Гончаренко в расположении части сейчас не было. Но после совместных раздумий мы справедливо пришли к заключению, что он находится где-то с правой стороны под ребрами. Итак, с теоретической частью конец!
А на следующее утро, согласно плану, я с озабоченно-серьезным лицом отправился к медицинскому божеству в царство йода, компрессов и шприцов.
Был ли я влюблен в Елену Николаевну? По-настоящему, пожалуй, нет. Но сказать, что она мне не понравилась, значило бы встать в какую-то фальшивую позу. Докторша, без всяких скидок, была удивительно хороша. Думаю, что и в мирные дни в Москве любой человек, встретивший ее на шумной улице, в фойе театра или в библиотеке, с удовольствием задержал бы на ней пристальный, а может быть, даже и восхищенный взгляд. Тем более здесь, на войне, в потонувшем в вешней распутице прифронтовом селе, где, кроме сурово-озабоченных и рано постаревших от горя и бед молчаливых хозяек, никаких молоденьких лиц вообще почти нет, впечатление от такой красоты было воистину подобно удару грома.
Я шел, внутренне подобравшись, заранее предчувствуя неприязненные взгляды пехотных офицеров и солдат. Как-никак, она была их однополчанкой, а я чужаком, и ревнивое отношение с их стороны было бы абсолютно естественным. Но судьба вдруг улыбнулась мне вместе с выглянувшим из-за туч краешком теплого солнца. Навстречу мне, чуть покачиваясь в бедрах и деловито ступая своими начищенными сапожками, шла сама Елена Николаевна: осиная талия, словно влажная вишня глаза и белозубая улыбка. Не доходя до меня с десяток шагов, она еще раз одарила меня улыбчивой вспышкой и серебристым своим голосом прозвенела:
– Куда это вы направляетесь? Уж не к нам ли в полк? По делу или в гости?
Мы стояли почти посреди дороги на территории пехотного полка. От близлежащих хат на меня и впрямь довольно недружелюбно посматривали офицеры их части. Еще бы! Сколько удалых сердец пересушила, вероятно, в этом полку красивая докторша! А тут вдруг какой-то пришлый офицер! Я вполне допускаю, что, встреться я им после этого где-нибудь поздним вечером в темноте, они обошлись бы со мной не совсем деликатно… Положение было сложным. Явись у Елены Николаевны хотя бы тень недоверия, и миссия моя провалилась бы с треском. Все зависело от первых фраз.
Деловито поздоровавшись и напустив на лицо еще более озабоченный вид, я с суровой грустью проговорил: