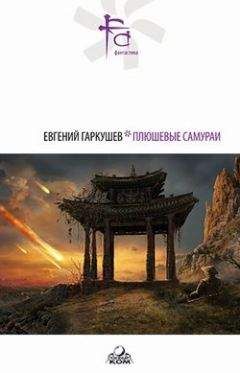На какое-то время, в холодном, страдающем старческой отдышкой автобусе у меня появилась слабенькая, еле теплившаяся надежда на возвращение незнакомки из глубины ее мерцающих зрачков и я даже начал что-то вспоминать, но вдруг один ее вопрос обрушил на теплый комочек надежды последний удар тяжелого как смерть молота. «А кто ты по знаку Зодиака?» — спросила она и, кажется, слегка удивилась, увидев на моем лице выражение не то боли, не то отчаяния (я все-таки не выдержал). Она поняла это по-своему и милостиво разрешила мне не отвечать, если у меня «какие-то свои взгляды на это дело». И когда она объявила свой знак и начала мне рассказывать про то, сколько и чего совпадает в ее характере с тем, что написано в книге, я понял окончательно, что теперь уже точно все, что у меня была просто минутная иллюзия, наваждение, мираж, вызванный автобусным полумраком. Коридор сузился сильнее, потом еще сильнее и, подавая ей руку на выходе («Но я недавно познакомилась с одним начинающим, правда, астрологом и он мне, — спасибо! — и он мне сказал, что на самом деле…»), я с безнадежной ясностью понял, что это тупик. Я уже не слушал, что сказал начинающий астролог, потому что дикий ужас охватил меня с головы до ног и с каким облегчением я вздохнул, когда она показала на башню своего дома. Я понял, что испытывают умирающие от жажды матросы, увидев в ночной тьме спасительный и слабый огонек маяка. С какой радостью я попрощался с нею, забыв, конечно же, что в таких случаях непременно полагается брать телефон. Но она сама мне напомнила об этом, и через минуту в моей руке оказался свежевырванный тетрадный листочек («А может все-таки зайдешь? У меня чай с лимоном!») с неровной строчкой цифр и ее именем. Я распрощался каким-то витиеватым и слишком многообещающим образом. Возможно, она что-то поняла, но мне было уже все равно.
Едва закрылась за ней дверь подъезда, я ринулся почти бегом на остановку и успел на тот же автобус, что вез нас почти полчаса сквозь ядовитую муть и морось октябрьского тумана. Я вскочил на подножку, плюхнулся с разбегу на какое-то одинокое сиденье и прислонился к мокрому холодному стеклу. Ничего больше не было, никаких чувств, кроме усталости и опустошенности. Хотелось добраться поскорее до дома, выпить горячего чаю и уснуть, просто уснуть. Я машинально вынул из кармана и развернул скомканный листочек. И вдруг я увидел, как цифры превращаются в какой-то странный рисунок, а когда присмотрелся, то понял, что это лабиринт, в котором бродят два человека. Они в разных концах, они ищут не выход, но друг друга, ибо выход будет в любой точке, там, где они встретятся. Но это произойдет нескоро, и я это знал, и, выходя из автобуса, я бросил листочек в первую попавшуюся урну. И в этот момент я вдруг вспомнил то, к чему лишь слегка успел прикоснуться, стоя в музее перед картиной и что, казалось, безнадежно забыл. Это был образ ушедший, словно под воду, из памяти в подсознание и все это время не дававший мне покоя, тревожно и мучительно пытаясь всплыть на поверхность моего сознания. И, глядя в черную жуть туннеля, в бездне которого уже грохотало железное чудовищe, я захотел вдруг выпустить этот образ на свободу полностью и тихо произнес: «Зеркало времени». Потом улыбнулся и еще раз, уже без кавычек, повторил: зеркало времени.
1992
Звезда Востока № 1. «МОЯ ПОЭЗИЯ — МОЛЧАНЬЕ»
Гуарик БАГДАСАРОВА
Из чего слагается вечность? Из мгновений, в которых, как молнией изнутри, вдруг сильно и кратко высвечивается гармония жизни, а значит, и смысл её. В эти редкие минуты или часы мы открываем для себя, как дар свыше, тот самый неуловимый смысл, который мы безостановочно ищем и хотим понять в потоке дней и бесконечных хлопот, встреч и разлук, обретений и разочарований, взлётов и падений и глубинного неистребимого одиночества наедине со своей судьбой, а значит, наедине с Богом, перед которым мы только и можем обнажить наше сознание, а значит, нашу совесть. Такие мгновения нам может подарить встреча с настоящим искусством — слова, резца, кисти, музыки. А тут всё соединилось в первой книге молодого поэта Баха (Баходыра) Ахмедова под странным, на первый взгляд, названием: «Молчание шара».
Баха Ахмедов читает стихи на поэтическом вечере в музее Есенина, март 2010.
И только на творческой встрече с автором книги в Государственном литературном музее Сергея Есенина в Ташкенте собравшиеся поклонники художественного слова узнали, что в этом интригующем словосочетании состоит творческое кредо талантливого поэта. Он расшифровал его в своих стихах:
«Моя поэзия — молчанье.
Моя свобода — черновик.
Пусть грусть в окно стучит ночами
И застревает в горле крик.
Я ухожу от искушений
Определять словами суть.
Я лишь рисую свет и тени,
И где-то между — Млечный Путь».
По образованию Бах Ахмедов, пошедший по стопам отца, физик. В прозаическом эссе «Молчание шара», замыкающем стихотворную книгу, известные нам со школьной скамьи геометрические фигуры — цилиндр, куб, конус, шар и пирамида — спорят о степени своего совершенства. Победителем из спора, несмотря на свое молчание, выходит шар. Он молчит, но он знает о «своём совершенстве, которое по иронии геометрии, стало его наказанием и самым большим несовершенством в этой несовершенной Вселенной несовершенных фигур».
Эта философская притча таит в себе отголосок далёкого платоновского идеалистического проекта о государственном устройстве, стабильном общественном строе, основанном на справедливости, возможности точного знания, на поиске единого и всеобщего многообразия явлений.
Книга Баха Ахмедова представляется такой вселенной, или поэтическим пространством, в котором «единственностью лирической стихии» (Б. Пастернак) объединены разные эпохи и темы. «Письмо из Древнего Рима» о нашествии варваров перекликается с актуальными проблемами неузнаваемо меняющихся современных городов и отчуждения людей под прессингом глобальной унификации. «Иероглиф судьбы чёрной тушью на тонкой бумаге» и «монах, улыбаясь, глядит на ночную долину» — эти детали поэт подмечает в картине средневекового китайского мастера, чтобы сделать неожиданный вывод:
«Иероглиф судьбы, но прозрачна картина, как воздух,
Чтобы свет нам дарить и тропинкой вести на вершину».
Поэт не просто изучает философов нового времени — Кьеркегора, Хайдеггера, Эйнштейна, писателей и поэтов Ренессанса и прошлых столетий — Данте, Шекспира, Пруста, Пастернака, Рильке и других: он ведёт в этом историко-информационном пространстве на равных с ними диалог, который приобретает формы транскультурного и надгосударственного единства. У них и у основателей мировых конфессий он ищет и находит целостные, а иногда и противоречивые ответы на волнующие его экзестинциально значимые вопросы о мире и о себе.
Ташкентского поэта в лабиринте истории, философии и литературы волнуют как раз те вопросы, которые один из почитаемых им философов 20 века Мартин Хайдеггер объединил бы одним понятием: «Ничто». Согласитесь, насколько это странно, на взгляд современного обывателя, заражённого рационализмом товарно-рыночных отношений, и насколько это актуально, с точки зрения понимания нашей жизни, чья суть постоянно ускользает от нас под мощным напором потока пустой информации и модных учений и поветрий.
На протяжении всей книги — а это 128 исповедальных страниц — автор вопрошает и одновременно пытается найти ответ, какое место занимают в этой космологической иерархии божественное и сам человек с его снами, мечтами и одиночеством, которому «больно жить и больно быть извечным приближеньем к вере». В этом тесном духовном и одновременно безграничном пространстве, которое можно было бы обозначить как «Территория любви» (по названию диска Рашида Ахмедова на стихи Баха) обитают разные персонажи, чьи судьбы, поведаны в лаконичной пронзительной стихотворной форме.
Герои книги «Молчание шара» навсегда войдут в сознание читателей даже при первом, самом поверхностном знакомстве с ней и уже не отпустят нас никогда, так осязательно, с потрясающей силой и глубиной «истины каждого мгновенья» (М. Цветаева) поведал о них автор: это хромой сосед-инвалид, незаметно и неожиданно для всех умерший в больнице («Он живым был и умер, как всё живое»); любимая женщина, чей образ в сознании автора «неизбежен» и профиль в нём — «навсегда»; респектабельный доктор Макфил, учёный из Англии, завораживающий нас своей странной двойственностью; «кошка под дождём» (здесь идут явные реминисценции с рассказом Хэмингуэйя); наконец, некий средневековый поэт, читающий крысам «красивый и грустный бред» под крики: «Браво»; «усталые ангелы на кончике иглы» и многие другие персонажи, перенаселившие книгу, включая дождь и снег, «незримое сияние Вселенной» — словом, всё, что одухотворяет нашу жизнь «опытом познания».