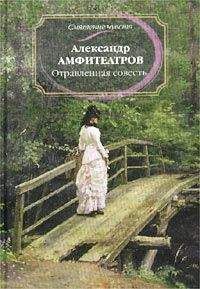— Послушайте… — глаза ее чудно блистали, — пускай я буду гадкая, ужасная, но ведь имела я, имела право убить его? ведь…
Аркадий Николаевич прямо взглянул ей в глаза и твердо ответил:
— Да, имели.
Она — как под внезапною волною счастья — пошатнулась, выпрямилась, согнулась, выпрямилась, вертела пред собою беспорядочными руками, красная лицом, сверкающая восторгом нечаянной радости:
— А… Благодарю вас… благодарю…
Сердецкий шептал:
— Одним вы виноваты предо мною: зачем молчали? Об одном жалею, что вы это сделали, а не я за вас.
Она приблизилась к нему — грустная, робкая, нежная, стыдливая.
— Я, может быть, противна вам?.. А, не перебивайте, я понимаю это… Это не от вас зависит, это инстинктивно бывает… ведь кровь на мне… Но вы не презираете меня — нет? не правда ли?
Он просто ответил:
— Я вас люблю, как любил всю жизнь.
Людмила Александровна печально усмехнулась:
— Да, всю жизнь… А знаете ли? ведь и я вас любила когда-то… Да! О, глупая, глупая! Может быть — если бы… а! что толковать! Снявши голову, по волосам не плачут.
Она взяла Сердецкого за голову и поцеловала его в губы.
— Это в первый и последний раз между нами, голубчик, — скачала она и смеясь, и плача. — Прощайте. Это вам — от покойницы. И больше меня не любите: не стою!
Встревоженный Сердецкий бросился вслед за Людмилой Александровной:
— Что вы хотите сделать с собою? Она остановилась:
— Не бойтесь за меня. Говорят вам: я не хочу умирать — боюсь. Я буду цепляться за жизнь, пока можно… А какими средствами? — не все ли равно, не все ли равно?
Степан Ильич Верховский просто не знал, что думать о своей жене. Его всегдашняя антипатия к Олимпиаде Алексеевне Ратисовой выросла более чем когда-либо. Между тем Людмила Александровна, словно назло, сходилась с нею — день ото дня — все теснее и теснее. Точно повторялись детские годы, когда Липа Станищева безраздельно командовала Милочкой Рахмановой. Степан Ильич хмурился, дулся, готовился вмешаться, однако его останавливало пока одно обстоятельство: в постоянном обществе жизнерадостной грешницы Людмила Александровна как будто ожила и повеселела… Стоило ей нахмуриться, Липа тормошила ее:
— «Что так задумчива, что так печальна»? Опять киснешь? Жаль. Право, мне тебя жаль. Годы наши не девичьи, летят быстро. Чуточку еще — и старость. А ты теряешь золотое время на хандру… есть ли смысл? С самого утра хоть бы разок улыбнулась! Что это? Кого собираешься хоронить?
— Себя, Липа, — мрачно возразила Верховская.
Олимпиада Алексеевна залилась хохотом:
— Ой, как страшно! Что же? тебе в ночи видение было? Это случается.
Верховская вздохнула:
— Да, видение… тяжелый, ужасный сон…
— Объелась на ночь, вот и все, — практически решила Ратисова. — Я тяжелые сны только на масленице вижу, после блинов, а то все веселые. Будто я Перикола, а Пикилло — Мазини. Будто в меня Пушкинский монумент влюблен, — что-нибудь эдакое. Тебя проветрить надо. Ты дома засиделась. Я из тебя живо вытрясу хандру. Ты на жизнь-то полегче гляди. Что серьезиться? Все трын-трава.
— Трын-трава? — качая головою, улыбалась Людмила Александровна.
— Уж поверь мне. Видала ты меня печальною? Никогда. Злая бываю, а грустить — была охота! С какой стати? Разве у нас какие-нибудь Удольфские тайны на душе, змеи за сердце сосут?
— А если бы… тайны и змеи?
— Я бы их — под сюркуп. Я бы так закружилась, чтобы и подумать о них было некогда. Мало ли веселого дела на свете? Утром — к Мюру и Мерелизу: раз! Потом смотри в афишу: есть в манеже гулянье? На гулянье! Нет? — к Ноеву на каток. За обедом часа три просидела в веселом обществе — глядь, восемь часов! пора в оперетку либо в оперу. Оттуда на тройке ужинать в Стрельну. Вернулась домой: какие тут тайны и змеи? устала до смерти, стоя спишь, только бы добраться до подушки; от шампанского в голове шумит… Если бы и это не помогло, я бы нового любовника завела, за границу бы поехала с милым дружком — да! Змеи подождали бы, подождали, пока я дамся им на съедение, а потом плюнули бы на меня и уползли…
— Оставив тебя оплеванной? — горько усмехнулась Людмила Александровна.
— Ах, матушка! На всякое чихание не наздравствуешься. Либо жить человеком, либо самоедом… вот как ты теперь на себя напустила. Я уж и то смеялась давеча Петьке Синеву: что он ищет рукавицы, когда они за пазухой? Приглядись, говорю, к Людмиле: какой тебе еще надо убийцы? Лицо — точно она вот-вот сейчас в семи душах повинится…
Людмила Александровна остановила ее с побелевшим лицом:
— Не шути этим! не шути! не смей шутить!
— Э! от слова не станется! — захохотала веселая дама, но та твердила, как дурочка:
— Не шути! Это… это страшно… Ты не знаешь!
Посмотрела на нее Олимпиада Алексеевна — только головой покачала:
— Эка трагедию ты на себя напустила! Даже по Москве разговор о тебе пошел. Намедни встречаю княгиню Настю Латвину… ну, знаешь ее язычок! Бритва! А что, спрашивает, Липочка: правда это, что ваша приятельница Верховская была влюблена в покойного Ревизанова и теперь облеклась по нем в траур?
Людмилу Александровну так и шатнуло. Искры закружились пред глазами. В ушах зазвенело.
— Я в него? — крикнула она, так что отзвякнули хрустальные подвески на люстре и канделябрах. — В этого… изверга?.. Да как она смела?! Как ты смеешь?!
— Пожалуйста, не кричи, — обиделась Ратисова. — Во-первых, я ничего не смею, а во-вторых… я все смею! не закажешь! Княгине я за тебя отпела, конечно. Ну, а влюбиться в Ревизанова — что тут особенного? Да мне о нем Леони такое порассказала… ну-ну! Я чуть не растаяла — честное слово. И этакого-то милого человека укокошила какая-то дура!.. Не понимаю я этих романических убийств! За что? кому какая корысть? Мужчины хоть и подлецы немножко, а народ хороший. Не будь их на свете, я бы, пожалуй, в монастырь пошла.
На Святках Олимпиада Алексеевна пригласила гостить к себе в подмосковную всю семью Верховских и Синева — в последнее время неразлучного своего спутника.
— Отчего это у Петра Дмитриевича такой сконфуженный вид? — тревожно расспрашивала Людмила Александровна Олимпиаду Алексеевну, летя с нею в быстрых санках по укатанной дороге от железнодорожной станции к имению Ратисовых.
— А что?
— Да он почему-то сторонится от меня, смотрит как-то смущенно: не то дуется, не то боится.
— И впрямь боится, — весело возразила Олимпиада Алексеевна. — Я тебе скажу, в чем дело. Откровенно говоря, я его, глупого, завертела — вот до сих пор. Он и сторонится от тебя, — боится, что ты догадаешься и намылишь ему хорошенько голову. Уж он просил меня — просил: «Главное, осторожнее с Людмилою Александровною! главное, она не догадалась бы! Если она узнает — другие мне безразличны, но если она — я сгорю от стыда на месте»… А я ему в ответ чувствительную реплику из «Отелло» — Баттистини:
О, ангел Дездемона,
Любовь мы нашу скроем…
Бесится. «Вам все шутки и смешки, а для меня уважение этой женщины — все равно что собственная совесть». — «Ах, милый друг, — говорю, — все это прекрасно, уважай ее, сколько хочешь, но зачем же от нее — в знак уважения — под куст-то прятаться?»
— Боже мой! И бедный Петя туда же. Да это эпидемия какая-то! — невольно рассмеялась Верховская. — Ты не женщина, Липа, а любовная зараза.
— Поголовная мобилизация, душенька! Пожалуйте, господа мужчины, к отправлению воинской повинности! — самодовольно возразила Ратисова.
— Бедный, бедный Петя! Зачем он тебе понадобился, Липа?
— А так — здорово живешь. Главное: в наказание. Уж очень любит мораль читать… Вот и пусть теперь — что ругал, тому и поработает!.. Знаем мы этих моралистов! Вчера весь вечер валялся в ногах — умолял сказать, что у меня к нему: каприз или страсть до гроба… Ну, как не до гроба! Если бы всех до гроба любить, я уж и не знаю, сколько мне гробов понадобится.
— И весело тебе с ним?
— Когда же мне бывает скучно? Он — ничего, довольно забавный! Хотя ведь это ненадолго: скоро скиснет — чересчур серьезно берет… Удивительный народ русские мужчины! совсем не умеют поддерживать легких отношений. Чуть интрига затянулась на две недели, уже и бесконечная любовь, и унылое лицо, и ревность, и револьверные разговоры…
— Счастливица ты, Липа!
— А тебе кто мешает быть счастливою? Живи, как я, — и будешь, как я.
— И снов не буду видеть?
— Уж это, матушка, не от нас зависит. Кому как дано.
— А если я именно от снов бегу? Именно снов не хочу больше? То-то вот и есть, Липа… Молчишь? Снов только мертвые не видят.
— Не к ночи будь сказано, — недовольно кивнула ей подруга. — Охота тебе.
— Чем дольше я живу, — рассуждала Людмила Александровна, — тем больше убеждаюсь, что люди клевещут на смерть, когда представляют ее ужасною, жестокою, врагом человека. Жизнь страшна, жизнь свирепа, а смерть — ласковый ангел. Она исцеляет раны и болезни… Она защищает от жизни… Жизнь обвиняет, а она придет — обнимет и простит…